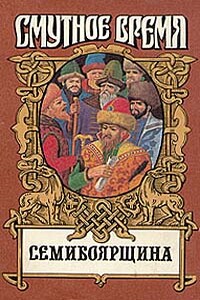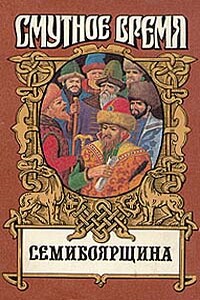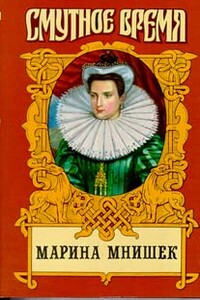«Выходит, упаси Боже от царской любви!» — подумал Василий Иванович.
Вдруг где-то на озере, на острове закричала, заплакала птица.
— Поймал, что ли, кто? — поежился Василий Иванович, озираясь на черные, угрюмо примолкшие дома.
Сердясь на свой испуг, встал с колоды, пошел во тьму, не дрогнув ни единой жилочкой. Воротился к колоде, оперся на нее ногой. Смотрел во тьму, накатившуюся со стороны озера, и в голове его было ясно:
«Царь любимцев своих любит до смерти. Вчера еще Москва ахала: Алешку Басманова, наипервейшего опричника, без советов которого ни единого шага, кажется, не делал, — казнил. А уж казнь ему придумал — горше и быть не может. Сын рубил голову батюшке. Федор Алексеевич Алексею Даниловичу. На верность ненаглядного испытал: кто дороже, отец или царь? Вот только надолго ли Федор свою голову сберег?
А Афонька Вяземский? Лекарства царь принимал только из рук Афоньки… По первому же доносу палками до смерти забили. И опять не без игры… Позвал Иван Васильевич князя к себе, из своих рук поил, как птицу, кормил, как кормят любимых коней, целовал, как женщину. Отпустил счастливого. А пришел князь Афанасий свет Иванович домой — все зарезаны, задушены. Все! Родные, слуги, даже кошки с собаками. Афанасий Иванович не завыл, с ума не сошел, сделал вид, что ничего-то в его жизни не переменилось. А царь Иоанн глядел на него во все очи да и приказал отвести на конюшню. На конюшне забили, дознаваясь, где золото свое прячет».
— Двум смертям не бывать. В службу, как в прорубь, — сказал себе Василий Иванович.
Пошарил ногой по земле, нащупал камешек. Поднял, кинул в озеро.
— Сам буду царем, коль не плеснет.
И не услышал плеска. Изумился. Головой покачал сокрушенно. Таких глупых дум батюшка не одобрил бы. Сечь за такие думы надобно до кровавых рубцов. С такими думами недолго царю Иоанну послужишь.
Поспешил в светелку. В постель, в постель, чтоб дурь заспать!
4
Пробудившись, князь Василий не выдал себя, смотрел, как Первуша Частоступ, шепча что-то нежное, младенчески улыбаясь, писал мафорий на Богородице. Богородица склонялась над предвечным Младенцем, дарила Радости Своей материнский ласковый поцелуй.
— Проснулся? — спросил Первуша, не оборачиваясь.
— Да я и ресницами не шелохнул, как ты услышал, что я не сплю? Научи! — Князь проворно поднялся с постели.
Старец повздыхал, охая.
— Наука моя — старость премудрая, это она все знает, — показал на икону. — Знаешь, как называется? «Гликофилуеса». «Сладкое лобзание» — по-русски.
— Афонская?
— Обретена в Афоне, в морских волнах, возле Филофеевского монастыря. Уж такие времена тогда случились. Император Феофил иконы сжигал, а поклонявшихся иконам предавал смерти. Из Византии приплыла. А написал сию икону апостол Лука.
— Лука и Владимирскую написал, и Одигитрию, и Влахернскую.
— Семьдесят икон у Луки-евангелиста. Семьдесят чудотворных животворящих источников от него, старателя Господнего, пришло нам, грешным.
— Пойду умоюсь, — сказал князь. — А потом помолимся вместе. С детства люблю с тобой молиться.
И они помолились, попели, поплакали.
— Сладко душе! — Василий Иванович троекратно поцеловал старца. — Спасибо тебе, драгоценный мой Первуша.
— Отдали дань Богу, а плоть тоже свою подать требует. Печь я нынче не топил, медом да творогом — обойдемся ли? Ты уж прости меня, князюшко, заработался я, грешный. — И полюбовался на дело рук своих. — Хороший цвет получился. Когда не получается, у меня пусто в сердце, а сегодня тепло.
— Цвет благородный! — согласился князь. — Ты ведь знаешь, чего с чем смешать, чтоб было такое.
— Знать знаю, но коли на совести хоть пятнышко нечистоты — ускользнет радость. И того положишь, и этого, как всегда, а вот ускользнет. Почитай-ка перед принятием пищи! — положил книгу перед Василием Ивановичем.
То было слово Ефрема Сирина «О душевном страхе».
— «Сидел я наедине в одном нешумном, безмолвном и возвышенном месте, — читал вслух князь Василий, — размышлял сам с собою и перебирал жизнь сию, ее заботы, смятение, молву, и, заплакав, стал говорить сам себе: «Почему жизнь эта проходит, как тень, пробегает, как самый скорый течец, и увядает, как утренний цветок?» И опечаленный, вздыхая сказал я: «Как проходит сей век, мы не знаем. Для чего же по слабости своей связаны, делами и помыслами непристойными?»