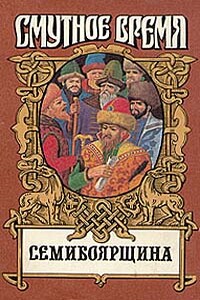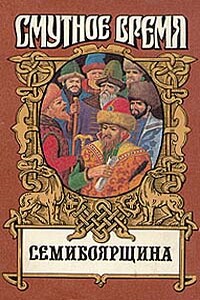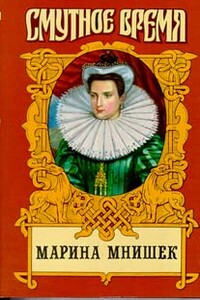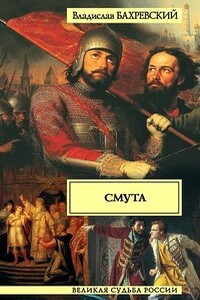Поклонившись ей еще раз в пояс, священники и весь духовный чин сказали в один голос:
— Будь по-твоему! Только и то помни, что, как умрет твой сын, не будем по нем панихиды петь, не будем благовестить.
И все разом сгинули из глаз Марины, которая проснулась, встревоженная сновидением, и разбудила сына своими страстными, горячими поцелуями. Мальчик проснулся, и первым его словом было:
— Мама! Гулять хочу! Пусти меня — мне скучно здесь.
И вдруг затопотали чьи-то тяжелые шаги у них над головою; застучал засов — и тяжелая дверь, скрипя, отворилась. Опустилась в темницу стремянка, а по ней сошли приставы, тот дьяк, что был при допросе, и два дюжих стрельца. Мальчик, отбежавший от матери в противоположный угол подполья, посмотрел на этих новых пришельцев с недоумением.
— Вы пришли за нами? — почти радостно проговорила Марина, приподнимаясь с кровати и гремя своей цепью.
— Не по тебя пришли мы, Марина Юрьевна, а по сына твоего, — сказал ей дьяк.
— Как? Вы его хотите взять у меня? — с испугом проговорила Марина.
— Так нам повелено…
И он указал приставу на ребенка, который пугливо забился в самый угол. Пристав подошел к нему и взял его за руку.
— Гулять пойдем, гулять! — нашептывал он ему, поглаживая его по курчавой головке.
Ребенок не сопротивлялся и только поглядывал на мать.
— Куда вы его ведете? — вдруг воскликнула Марина, выступая вперед, насколько ей позволяла цепь.
— Ведем, куда приказано, — коротко и ясно сказал дьяк, поворачиваясь к лестнице.
Марина все еще не могла уяснить себе смысла этих слов; но даже и простая разлука с ребенком представилась ей ужасною! Она упала на колени и, простирая руки к дьяку и приставам, проговорила умоляющим голосом:
— Ради Бога, ради всего святого! Скажите, — лучше ли ему там будет, чем здесь? Вернется ли ко мне, увижу ли я его?..
— На все то воля Божия, Марина Юрьевна, — глухо проговорил дьяк и стал подниматься по лестнице. Пристава подхватили ребенка, который даже не успел и оглянуться на мать, как уже очутился наверху. За приставами поднялись стрельцы — и дверь подполья тяжко захлопнулась, заглушая стоны несчастной матери.
А пристава вывели ребенка на двор тюрьмы, где уже ждали их… Ребенок увидел перед собою толпу вооруженных людей, увидел священника с крестом, в черном облачении, и какого-то высокого ражого мужика в красной рубахе и кафтане внакидку, с широким топором за поясом.
— Вот! На тебе его! — сказал один из приставов, передавая ребенка палачу.
— Ну, этот здесь! А те-то где же? — крикнул палач, поднимая ребенка на руки.
— И те идут! — отозвался кто-то.
И точно, из одной избы вышел Заруцкий и еще другой высокий, худощавый мужчина… На обоих были надеты поверх одежды белые саваны; в руках у них были зажженные свечи.
— Дядя! — обратился мальчик к палачу. — Мне холодно! Мой кафтанчик там у мамы остался…
— Ничего. Нам недалеко с тобой гулять, — сказал ему палач и заботливо прикрыл ребенка полою своего кафтана.
— Ну, все готово, господин дьяк! — доложили пристава.
Дьяк сел верхом на подведенного ему коня, махнул рукою и проговорил:
— С Богом!
Ворота тюремного двора отворились, и шествие медленно двинулось к месту казни. Осужденные на казнь затянули на ходу заупокойные молитвы, и их голоса звучно и глухо разносились в холодном и прозрачном воздухе сентябрьского утренника.
Когда дьяк и пристава увезли сына Марины и дверь подполья тяжело захлопнулась за ними, Марина долго рыдала, стоя на коленях… Слезы горькие, горючие, ручьем лились из глаз ее, лились неудержимо… Лютое горе разлуки с единственным ребенком, единственной утехой, которую еще оставила ей злая судьба, — это горе, как дикий, кровожадный зверь, грызло ее сердце и заставляло ее рыдать так, как не рыдала она даже над трупом Алексея Степановича, как она никогда не плакала над собою, над своим горем, над всеми своими утратами.
Вдруг до ее слуха долетели какие-то странные звуки… Что это за звуки?.. Где она слышала их? Почему они так неприятны, так тяжко поражают ее слух?..
Марина поспешно отерла слезы рукою, присела на полу и стала прислушиваться. Да! Она не ошибается: она слышала это пение… на отпевании царика и Алексея Степановича! Слышала где-то и этот голос, который ведет и тянет те же звуки… Это похоронное пение! Но отчего же оно раздалось так близко, так явственно около самой ее тюрьмы и потом стало удаляться более и более, пока не замерло в отдалении? Отчего это пение раздалось почти тотчас после того, как ее сын, ее милый Иванушка, вышел из тюрьмы на Божий свет — на простор, на солнце, на свежий воздух?..