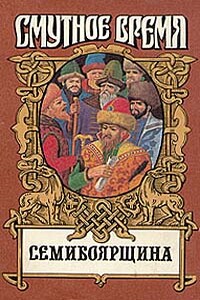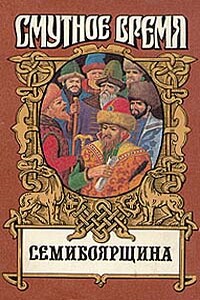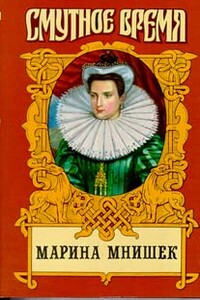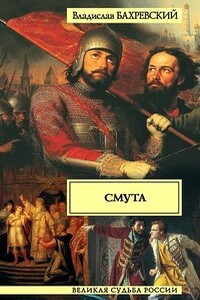Солнце, багрово-красное, обливая запад огненным заревом, близилось к закату, а жаркий июльский день приближался к концу, когда двое пешеходов, запыленных и усталых, подходили по Троицкой дороге к селу Братошину. Один из них был человек громадного роста и богатырского сложения, облеченный в холщовый подрясник, подпоясанный широким ремнем, и в широкополую, плетенную из соломы шляпу; другой был тщедушный человек средних лет, живой и юркий в движениях, одетый в потасканный кафтан и в колпаке, нахлобученном на самые брови. У обоих за плечами были немудрые, плетенные из бересты котомки, а на ногах онучи и лапти с оборами. Оба были, видимо, утомлены и тяжело переступали с ноги на ногу, отпечатывая на пыльной дороге свои решетчатые следы и грузно опираясь на клюки подорожные.
— Ой, смерть моя! Не дойти, кажется, будет… Сколько верст тут еще до Братошина-то, Ермилушка? — проговорил жалобно тщедушный пешеход, приостанавливаясь и оправляя на плече веревочную лямку от котомки.
— Ну, ну! Бодрись, Демьянушка! — пробасил в ответ ему поп Ермила. — Вон, коли глаз у тебя хорош — воззрись вдаль и увидишь, как на солнце искоркой горит крест от Братошинской церкви.
— Ну, видно, с тобой ничего не поделаешь. Айда, помахаем еще чуточку… пока не свалимся…
— Вот так-то лучше! Недаром ведь говорят: что вперед-то горе меньше заберет! Хе-хе-хе! Так ли, Демьянушка? — сказал ласково поп Ермила своему спутнику, слегка похлопав его своей тяжеловесной лапищей по плечу.
И оба путника с удвоенной энергией опять пустились шагать по дороге, бросая по ней длинные, протянувшиеся вдаль тени от солнца, медленно и величаво опускавшегося за ближний лес.
В то время как эти два путника с возложенным на них тайным поручением приближались к Братошину, в селе этом шла большая суматоха. Под вечер прибыл туда из Ярославля огромный поезд польских пленников под охраной стрелецкого отряда, предводимого царскими приставами. Сорок крестьянских телег и с полдюжины крытых колымаг, составляющих поезд, расположены были «гуляй-городком» на обширной поляне под самым селом, на берегу излучистой речки, исчезавшей в густых кустах ивняка, орешника и осины. Пленные поляки были размещены внутри города, а их подводчики и охрана расположились на лужайке около огней, на которых варилась пища, между тем как целый табун стреноженных коней, разбившись отдельными кучками, разбрелся кругом и мирно пощипывал сочную траву по бережку речки. Везде слышится смех и говор, то русский, то польский, везде мелькают в кустах люди, перекликаются голоса, слышатся плеск и взвизги купающихся. Между пленными поляками исключение сделано только для Марины и ее служни, да для самого пана воеводы с его приближенными. Хотя их везут и с «большим береженьем», но в то же время и «вольготно», то есть не особенно стесняя и доставляя им в пути возможные удобства. Поэтому пристав пана воеводы и его дочери, Алексей Степанович Степурин, распорядился отвести под постой Мнишков обширный и нарядный дом богатого братошинского попа, в котором отец и дочь разместились очень удобно, в избе-двойке, разделенной сенями.
Но все стражи, утомленные долгим и тягостным переездом по пыльной дороге, среди жары и духоты, все почти не ужинали и поспешили отправиться спать — кто в сенях, кто на сеновале… Одна только Марина не спит и не хочет спать, и не дает спать своей старой охмистрине, панне Гербуртовой. Она вышла на крылечко, которое ведет из сеней поповской избы в поповский огород, заросший густыми кустами малинника, крыжовника и смородины и высокими густыми душистыми травами. Усевшись на верхней ступени крылечка, Марина с наслаждением вдыхает прохладу, которой повеяло из сада после заката солнца. Панна Гербуртова села на три ступеньки ниже своей наияснейшей панны Марины и, видимо, очень недовольна прихотью своей госпожи: она посматривает кругом, нахохлившись, как птица, усевшаяся на насест, и изредка даже прищуривает глаза, невольно поддаваясь дремоте.