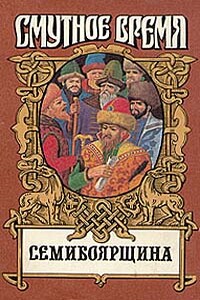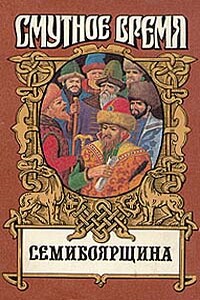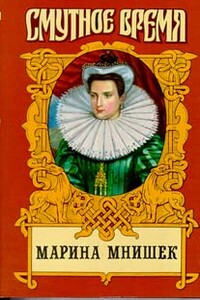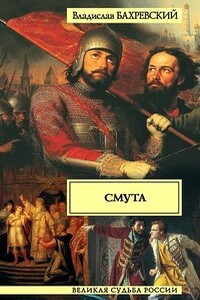Вот наконец он с Зосей у себя, в теплой избе, вот он опустил ее на лавку, а сам опустился на колени около нее, все еще не разжимая своих тесных объятий.
И она старалась освободиться из его рук, плотно укутываясь в свою старенькую шубку.
— Оставь, а то не захочу и целовать тебя, не приласкаю! — грозила Зося, сама теряясь и увлекаясь горячею страстью юноши.
Юноша, напуганный угрозой, послушно разжал свои крепкие руки и положил горячую голову на колени девушки.
— Ну, вот так, вот… Ты хороший, ты послушный… Ты любишь Зосю — я это вижу, — говорила вполголоса девушка, перебирая руками густые кудри Ивана Михайловича. — Вот, видишь, ты мне все не верил, ты на меня сердился… А я пришла. И за то, что ты такой послушный, такой хороший, вот тебе…
Она быстро ухватила его голову обеими руками, приподняла ее и поцеловала его в лоб.
За этим поцелуем последовал другой, третий, и он, дрожавший, как в лихорадке, был так сдержан, так скромен. Он только сжимал ее руки и покрывал их поцелуями; он только шепотом молил ее, чтобы она дозволила ему поцеловать ее в уста сахарные.
— Ну хорошо… Только один раз — я ведь не люблю целоваться! — как будто нехотя согласилась наконец Зося.
— Один, один разочек! — чуть слышно шептал Иван Михайлович.
И их уста слились. И этому горячему, страстному поцелую конца не было. Он был «один», но в этом «одном» были сотни поцелуев, была целая буря страсти, которая охватила оба молодые существа, отуманила их головы, сплела их руки в неразрывном объятии. Зося позабыла даже о лукавстве, даже о самозащите и уже не отрывала своих уст от пламенных уст влюбленного юноши.
Сколько прошло времени с тех пор, как они забылись золотым сном любви, этого они не знали и не могли бы сказать; но пробуждение их было внезапно и страшно. Над самою их головой вдруг что-то грохнуло в крышу избы и грузно перекатилось по скату ее; потом еще и еще удар, и потом какая-то возня, борьба под окном, какой-то подавленный стон, опять борьба и громкое хрипение.
Иван Михайлович вдруг вырвался из объятий Зоси и вскочил на ноги.
— Что это? Душат кого-то? — проговорил он быстро, впопыхах хватая в темноте саблю со стены.
— Не выходи! Останься со мной!.. Мне страшно! — шептала Зося, судорожно хватая его за руку и привлекая к себе.
Но возня под окном продолжалась. Стон, более слабый, повторился еще раз.
Иван Михайлович рванулся от Зоси, которая за него цеплялась, стараясь удержать его, но не могла. Он вырвался и бросился из избы во двор.
В темноте в углу между воротами и избой он увидал, что какие-то три темные фигуры барахтаются на снегу, между тем как две другие, подставив стремянку к забору, перелезают через ворота.
— Кто тут? Что делаете? — крикнул Иван Михайлович, бросаясь к этим темным фигурам.
— По-мо-ги! — прохрипел знакомый голос человека, которого душили и вязали какие-то люди.
Иван Михайлович бросился на одного из них, схватил его за плечо и разом опрокинул на снег; пока тот поднимался, он схватил за шиворот другого, но в это мгновение что-то гладкое и холодное скользнуло сзади по шее Ивана Михайловича, кольнуло его над левою ключицей и вонзилось где-то глубоко-глубоко внутри… Он вскрикнул коротко, глухо простонал и опрокинулся навзничь, обливаясь обильной струей горячей крови, которая ключом била из сердца, проколотого предательским ножом.
— Прентко, прентко! Панове! Уцикамы![17] — раздались над головой Ивана Михайловича голоса, и трое поляков, бросив два трупа около избы, ринулись к стремянке, мигом взобрались на нее и один за другим перемахнули через ворота, уже слыша за собой голоса и шаги сторожевых стрельцов, встревоженных криком.
Когда несколько минут спустя люди с фонарями сбежались к избе, им представилось страшное зрелище: под окном избы лежал скрученный кушаками голова. Глаза его были широко раскрыты, рот искривлен, на шее была затянута мертвая петля. Немного далее лежал Иван Михайлович в широкой и темной луже крови, обильно напитавшей белый снег. Кровь еще лилась из широкой ножевой раны, но он был недвижим и бездыханен.
Двери избы были широко открыты в сени. Бросились в избу — и никого там не нашли… Изба была пуста. Только шапка Ивана Михайловича валялась среди пола.