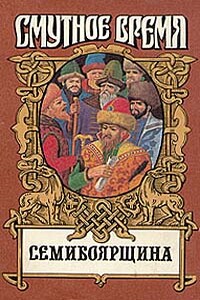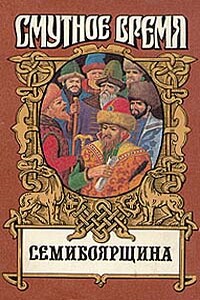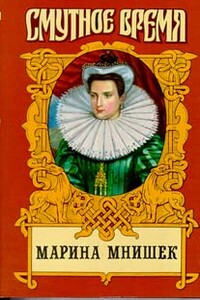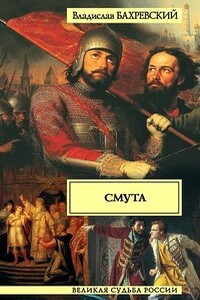Было это так хорошо, что всем было хорошо. Но Иов, собрав силы и посуровев, звонким детским голосом стал вдруг выговаривать москвичам:
— Вы сами знаете, убит ли Самозванец. Знаете, что не осталось на земле и скаредного тела его. А злодеи-то, вымазывая Россию черной смолой, криком кричат, что он жив, что он и есть истинный Дмитрий!
— Не верим! Не верим злыдням! — закричали люди.
Иов подождал, пока иссякнет шум, и молвил тихо, ясно:
— Велики грехи наши пред Богом в сии времена последние.
— В последние! — простонала, как эхо, одна боярышня.
— Ох, велики грехи, коли всякая сволочь мерзостная, всякая тать разбойная, беглые холопы могут столь ужасно возмущать отечество! Да простит Бог царя русского. Да простит Бог каждого русского человека! Да пошлет Русскому царству тишину. Тишины молим, боле ничего. Одной тишины.
И плакали все в храме, и плакали все на площадях, не слыша слов патриарших, но видя слезы других. И такое умиление исходило из Успенского превеликого русского храма, что все стали как младенцы.
…В те светлые для Москвы дни в доме Буйносовых поднялся переполох и случились многие слезы. Отпуская от себя Иова, государь Василий Иванович пал на грудь старца и молвил:
— Возьми меня с собою, святый великий отец наш! Изнемог я от мира, в монастырь хочу. Последним служкой возьми! Под начало суровых старцев. За себя терпеть тяжко, а за всю-то Россию каково?
Марья Петровна, услыхав о таких словах Василия Ивановича, надерзила матушке, пожалевшей дочку:
— Ваш Шуйский не для того столько врал и самого царя убил, чтоб в монастыре в грехах каяться! Не повторяйте чужих глупостей вслух, драгоценная матушка. Глупость, как дурная трава, растет где попадя, и на крыше храма, бывает, растет!
Совсем осердясь, позвала управляющего двором, приказала, топая ножкою:
— Кто будет говорить о государе небылицы, того пороть без пощады.
— По скольку ударов? — спросил управляющий.
— Да по сорок! А кто и во второй раз говорить будет, так по все сто!
Крепка была на свету Марья Петровна. А как ночь пришла, изнемогла во тьме, завалилась в постель — и в слезы. До зари проплакала.
32
Уезжал Иов в дальнюю свою Старицу в легкий морозец, по розовому утреннему снегу. Весеннее синее небо пронзило усталое сердце. Сорвалось у Иова с языка:
— Знать, последняя моя весна.
— Отчего же?! — всполошился Енох.
— Чую, прощается душа с земной благодатью! — И ахнул: — Енох, старче! Да ведь я вижу! Я все вижу, как молодой.
Каретка, увозившая патриарха, была с окошками, и старец все оборачивался, все глядел на Москву, отходившую в сторону и в даль.
— Больше мне не быть здесь, — сказал Иов, и в его голосе не нашлось горечи и сожаления. — Все я здесь познал, высшее и низшее. И не знать бы ничего, да Бог не велит.
Енох, чтоб беседой развеять опасные думы, покряхтя, спросил:
— А крепок ли государь Василий на своем столе? Вроде бы умен, учен…
— На царстве одно свойство дорого: есть ли у царя счастье. Коли есть — ни ума не надо, ни могущества. Борис Федорович разумом был могуч, а уж милосердия его хватило бы на всех царей мира. Не дал Бог счастья. Не наградил. А каков занимался свет над отчизною нашей от свечи Федора Борисовича! Как вспомню — плачу… Никудышный я молитвенник, не умилостивил Господа Бога. Но Он знает больше нашего. И коли слезы мои по убиенному отроку грех, то грех сладчайший.
Молчал, глядел на поля и снова ахнул:
— Гаснут, гаснут очи мои.
Енох кинулся доставать святое масло, глаза помазать, но Иов остановил его:
— Сиди. Молчи. Бог дал мне на Москву поглядеть. Москва скрылась, и глаз уж мне больше не надобно. — И крепко, сердито стукнул кулачком о стену кареты. — Я о царе Иване, о разуме его высоком слова высокие на Соборе говорил. Но ведь царь Иван поле сеял, а мы на том поле снопы вяжем. Все черные. С червями вместо зерен… Боже мой! Боже мой! Одною неправдой живет Русь! Страдалище наше!
…Отзвонили колокола, но след за патриархом Иовом еще не запорошило. Царь Василий места себе не находил во вдруг наступившей тишине.
Прощение Иова свято. Но ведь не Иов пришел в Москву, а был зван… Не оттого ли и вести худые? Воевода лжецаревича Петра — Господи, сколько их, самозванцев, на Руси! — князь Андрей Телятевский побил под Веневом князя Хилкова, а потом князя Воротынского, занял Тулу и Дедилов.