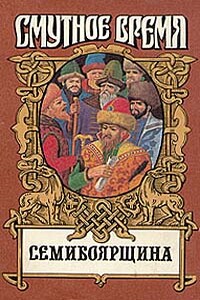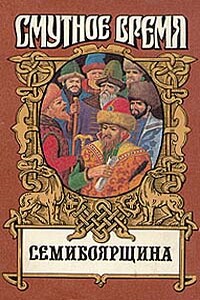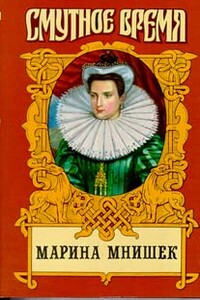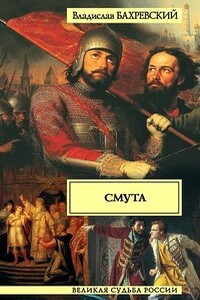— В этих хоромах живут те, кого Иван Исаевич в лицо знает.
— Я атаману знаком.
— Не умничай, — сказал неодобрительно Неустрой. — Раньше я казну в мешке носил, на плече. А нынче иное уж дело.
Взял связку ключей из-под подушки. Отомкнул чулан.
— Снимай свою рвань. Вон шуба волчья. Бери!
— Не смею! — испугался Переляй.
— Бери! Это тебе за пролитую кровь. — Достал из ларя залитую воском махотку. Раздавил закупорку. — Черпай, сколь в горсти уместится.
Переляй почерпнул.
— Золото?!
— За службу твою. Грамотки, чай, носил в Москву? Иные из тех, кто носил, на колу жизнь кончали. Твое… А теперь уходим.
Затворил чулан на замок и, огромный, тихий, как ночь, прошел мимо стражи и караулов, привел Переляя в деревушку соседнюю.
Зашли в крайний двор.
— Лошадь запряги в санки, в самые легкие, — сказал Неустрой хозяину избы, махонькому мужичку с понятливыми глазами.
В избе было чисто, тихо.
— Вот здесь и отоспишься.
Неустрой взял с противня черный сухарь, погрыз.
В избу вернулся хозяин, стал у порога.
Неустрой обнял Переляя:
— С Богом! Не поминай лихом!
— Да куда ж ты?
— Домой. Довольно с меня возле кубышки на цепи сидеть. Она вся в крови, казацкая кубышка.
— Как домой? — испугался Переляй.
Вспомнил о золоте за пазухой.
— Ты-то ведь сам-то… без него.
— Не заслужил. Ни чужой крови, ни своей не проливал. Ничего мне не надо. По-человечески жить хочу. По-прежнему.
— В холопах?
— Так Бог судил. И за то слава Ему. Мог бы собакой родиться.
Перекрестился и вышел. Заскрипел снег под санками. У Переляя кружилась голова, сон так и смаривал.
— На печку бы, — сказал он хозяину.
— Эй! — подал наконец голос крестьянин.
С печки по-воробьиному слетела стайка детишек мал мала меньше. Переляй ступил ногою на деревянную лесенку и бухнулся в теплое, в темное, в доброе, в детство свое позабытое. Плавал во сне, как по морю, но через поды, ветры, через сон беспробудный пахло ему хрусткими, крепкими черными сухарями.
27
Вся дворня сбежалась глядеть на колесника Неустроя. Явился, как о землю вдарился. Не было — и вот он! Одет хорошо, санки как пух. Кленовые, что ли? На лошади не пахать, не возить — на племя.
Поклонился Неустрой людям родненьким до земли.
— Братцы вы мои! — и заплакал.
Стоя на коленях в снегу, ждал господского верховного слова. И тут уж дворня плакала. Что будет? Что будет? Вышла Платонида, велела в покои идти.
Предстал Неустрой пред очи Марьи Петровны.
— Переляя видел? — спросила княжна, взглядывая на Лушу.
Обмер Неустрой. Ждал кнута, дыбы, ора бабьего.
— Нынче видел. Ухо ему задели пикой, мочку. Я подлечил.
— Так вот нынче и видел?! — изумилась Марья Петровна. — Да где же?
— В Коломенском…
— Господи! — ахнула Платонида. — В Коломенском-то супостат!
Неустрой вздохнул, опустился на колени.
— Дозволь, княжна, мне жить по-прежнему, в холопстве. Лошадь и санки не украл. Я у Болотникова кухонными делами ведал.
— У самого?! — изумилась Марья Петровна. — А каков он из себя?
— Высокий. Строгий. Вроде Переляя нашего. Я, госпожа моя, ни в чьей крови не виновен. Мое дело было — накормить, напоить, а как зима пришла, так еще печи натопить.
— А этот-то… сам-то… больно злой?
— За простых людей заступается. Дома-то он человек тихий. На вечернюю звезду любит глядеть.
— Ишь ты! — неодобрительно, но без злобы откликнулась Платонида. — А как тебя в Москву пустили?
— Нынче всем, кто уходит от Болотникова, свободный проход и воля. Царь милует.
— Как царь, так и мы! — сказала с гордостью, с радостью Марья Петровна и не удержалась: — Вот он каков, государь Василий Иванович. Никому от него зла нет.
— Великомилостив! Велико! — Неустрой вдарил лбом в пол и, проливая слезы, взмолился: — По-старому жить дозволь, госпожа великая! Смилуйся! Колесник я. Мне бы колеса гнуть.
— Ну так и гни себе! — согласилась Марья Петровна. — Милую! Царь милует, чего же нам-то не миловать? Милую.
«Какая жизнь разумная пошла! — душою обрадовался Неустрой. — Видно, впрямь царь Василий — добрый человек и мудрец».
28
Москва взбадривалась день ото дня.
Пришел хорошо вооруженный, большой числом полк смолян. Через сутки ржевский полк.
Дождавшись помощи, воевода Скопин-Шуйский со смолянами и ржевцами пошел на Коломенское. Он выступил 1 декабря, да так опасливо, что трех километров не одолел. 2 декабря поутру у деревни Котлы царские войска сошлись с отрядами Болотникова.