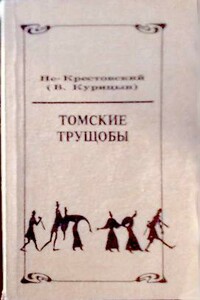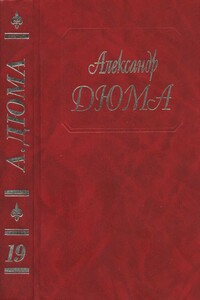Алексей Петрович накануне знаменательного дня вернулся домой в третьем часу ночи.
Ему отворила жена. Видно было, что она ещё не ложилась. Она посмотрела на Алексея Петровича тревожным озабоченным взглядом и шёпотом спросила, запирая дверь:
— Все приготовления окончены?
— Да, все сделано.
— По городу ходят самые нелепые слухи…
— Знаю. Этого нужно было ожидать. Завтрашнее выступление представляется обывателю чуть ли не началом конца… Олли, я страшно хочу пить, нет ли у нас чаю?
— Самовар на столе, только холодный. Может быть, подогреть? Я могу это сделать сама.
— Не нужно… Мне только утолить жажду… Да, жаркий завтра денёк будет! Но наши рабочие настроены прекрасно. Ах, какие это славные ребята, Олли! Как они беспредельно преданы делу… И понимаешь, ни тени бравировки… Держат себя спокойно, с естественной простотой.
…Ремнев выпил один за другим два стакана холодного чаю, раскрыл портсигар и стал вертеть папироску.
Был он сегодня как-то особенно вдумчив и серьёзен. Но это не был страх за самого себя. Ремнев, когда дело касалось партийных интересов, не знал колебаний. Прямо шёл к цели.
Как и все люди, задавленные узкой односторонней доктриной, Ремнев был прямолинеен. Если у него и были сегодня сомнения, то они имели в своей основе не шкурный страх, а скорее сознание той ответственности, которую он и его товарищи брали на себя завтрашней демонстрацией. Завтра несколько сотен людей, из которых добрая половина принимает партийные директивы не рассуждая, на веру, выйдут на улицу и подставят свои головы под нагайки, а может быть и шашки.
Трудно учесть относительную пользу выступления. А жертвы, во всяком случае, будут. И он, Ремнев, вместе с остальными товарищами-комитетчиками не может не сознавать, что ответственность за это падает отчасти и на них…
— Ты остаёшься по-прежнему при своём убеждении о необходимости лично участвовать в демонстрации? — вполголоса спросила Ольга Михайловна.
В глубине души она считала этот вопрос давно и бесповоротно решённым. Спрашивала только так, для очищения совести.
Ремнев грустно улыбнулся и покачал головой.
— К чему этот разговор? — заметил он с лёгкой укоризной. — Ведь я уже высказал тебе своё мнение, да иного и быть не может… Сидеть в то время дома, в безопасном месте, когда твои товарищи идут, чтобы… Ей Богу, просто даже странно, как ты не можешь понять таких простых вещей!
Он потушил папиросу нетерпеливым жестом, как бы давая понять, что не желает продолжать разговор.
В тёмно-серых глазах Ольги Михайловны мелькнули искорки скрытого раздражения.
— Ничего нет странного! В каждом деле необходимо распределение ролей. Ты нёс на своих плечах трудную подготовительную работу. Устал, изнервничался. За эту неделю ты больше рисковал своей личной безопасностью, чем будут рисковать те, которые пойдут по городу с пением Марсельезы… Наконец, тебе грозила и грозит большая ответственность, как одному из организаторов. Зачем же лезть на рожон? Нет, я не понимаю действий вашего комитета. Рисковать наиболее полезными, наиболее ценными работниками, низводить их до уровня массы, это, по-моему, плохой стратегический приём!
— Бог знает, что ты говоришь, Олли? Если бы комитетчики спрятались на завтрашний день в подполье, то какими глазами стали бы смотреть на нас рабочие? Ведь это внесло бы в их среду деморализацию… Да я сам первый перестал бы уважать себя за такой поступок. Наше место на передовых позициях! Мы застрельщики революции, а не штабные стратеги, которые направляют ход сражения, сидя в безопасных блиндажах.
— Стало быть, по твоему мнению, и я должна идти?
— Ты — другое дело… Ты женщина и мать… Твоё отсутствие не может иметь серьёзного значения… Конечно, ты как гражданка, сознавшая необходимость протеста, рассуждая логически, должна поддержать этот протест активно… Но твоё присутствие, повторяю, необязательно. А я должен быть со своими товарищами. Должен разделить их участь до конца!