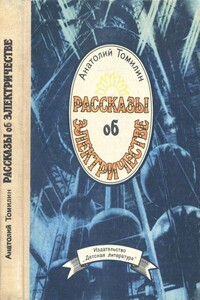«Счастье Анны Степановны, — говорила она в кругу таких же ханжей, — что сердце ее величества мягкое, как воск. Из жалости держит Протасиху при себе. Из жалости к ней и к ее племянницам. Ну и конечно… — Тут она понижала голос до шепота. — Конечно, вы же знаете madame, о ее обязанностях. А уж горда‑то, горда… Истинно — «черномазая королева острова Таити»».
Но тем любезнее встретила она камер‑фрейлину. Слава Богу, Анна знала этому цену. О графине Салтыковой ходила молва при Дворе как о женщине бессовестной, вздорной и бранчливой. «Халда»[130] — одним словом охарактеризовала ее Анна, когда императрица передала ей часть разговоров Салтыковой. Однако сейчас ей нужен был супруг этой халды и Анна решила вести себя вполне светски. Она первой присела в вежливом реверансе. Салтыкова протянула руки, словно желая поднять неожиданную гостью.
— Любезная Анна Степановна, мы всегда рады вас видеть. Небось по делу. Нет того, чтобы просто зайти, выпить кофею, а вы все в бегах да в хлопотах. Истинно… — посланник богов. Позволю себе надеяться, что ваши вести окажутся добрыми…
Она нарочно сравнила камер‑фрейлину с Меркурием, считая, что той не додуматься до ее тонкого намека.[131] Однако Анна поняла. У нее даже засвербело, так хотелось должным образом ответить этой сушеной стерве. Но тогда путь к выполнению поручения императрицы значительно бы удлинился. И она сказала кротко:
— На сей раз, ваша светлость, не я вестница, а, напротив, — к Николаю Ивановичу, аки к оракулу Дельфийскому, за советом.
— Опасаюсь, недосужно ему в сей‑то момент, занят… Не смогу ли я пособить?
— Благодарствуйте, только не мой это вопрос. Дело конфиденциальное, и я обожду, ежели позволите.
Салтыкова поджала тонкие губы.
— В таком случае не взыщите. Покину вас, пойду распоряжусь, чтобы доложили, какой высокий гость ждет…
И, кивнув на прощание, она засеменила к выходу.
Анна с облегчением вздохнула. Тонкий слух ее уловил за дверью, ведущей, скорее всего, в спальню хозяина покоев, невнятное бормотание, прерываемое глухими стуками. «Поклоны бьет, — подумала она, — какие грехи отмаливает?»
За окном прозвякали бубенцы, подвешенные под дугой коренника тройки столичного обер‑полицмейстера, уже успевшего прикатить и сделать обычный утренний доклад государыне. Анна знала, что грехи у Николая Ивановича были и немалые. Смолоду, снедаемый честолюбием, был он ради карьеры, ради монаршего благоволения, готов на все. И делал все: шпионил, наушничал, тайно и тонко интриговал… Что же, он и сделал карьеру, блестящую даже для представителя такого древнего рода.
Дальше Анна не успела додумать. Дверь скрипнула и из нее шаркающей походкой, припадая на ногу, вышел граф. Он зажмурился, попав в полосу яркого солнечного света и, как бы не заметил фрейлины. Но тут же приоткрыл глаза и, изобразив на сморщенной роже гримасу, которая должна была означать радостную улыбку, запел тонким голосом:
— Матушка, Анна Степановна, чем обязан удовольствию?..
Старый честолюбец терпеть не мог фрейлин, но Анну от остальных отличал и побаивался. Во всем же остальном относился к ней так, как и должен был относиться такой стручок к высокорослой и пышнотелой даме. Глазки его масляно заблестели, он ловко поймал руку фрейлины и с причмокиванием поцеловал. В общем‑то Салтыков был вовсе не так стар, каким представлялся. Год, другой отделял его от императрицы, но, несмотря на постоянную заботу о своем здоровье, выглядел он куда старше.
— Вы, голубушка, как всегда — Минерва. Истинно Господь счастье послал начать день, вас увидевши, богиня… Ах, кабы годочков этак сорок долой…
Он захихикал, потом закашлялся. Анна перебила.
— Полно граф… Мне ли не знать о вашем здравии и сбыточности…
Маленькие карие глазки Салтыкова остро блеснули из‑под полуопущенных век. Он замахал ручками.
— Ах, Анна Степановна, Анна Степановна, вам хорошо шутить. При такой‑то телесности, красавица. А мы что, мы разве можем, на что надеяться…
Анна была прекрасно осведомлена, что в девичьей салтыковской усадьбы обреталось до двенадцати ладных крепостных девок. И что особенно любил Николай Иванович дев дородных, большегрудых с объемистыми