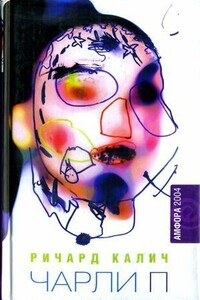Если эти рейсы бабушки по саду происходили после обеда, то одна вещь способна была заставить ее вернуться, именно: голос моей двоюродной бабушки, кричавшей ей: «Батильда! Иди скорее, запрети твоему мужу пить коньяк!» — в один из моментов, когда круговое движение ее прогулки периодически приводило ее, словно насекомое, к освещенным окнам маленькой гостиной, где были сервированы на ломберном столе ликеры. Действительно, чтобы подразнить ее (она вносила в семью моего отца дух настолько своеобразный, что все подшучивали над ней и дразнили ее), моя двоюродная бабушка побуждала дедушку, которому спиртные напитки были запрещены, выпить несколько капель коньяку. Бедная бабушка входила и горячо упрашивала своего мужа не пробовать коньяку: он сердился, выпивал, несмотря на уговоры, свой глоток, и бабушка уходила, печальная, обескураженная, но с улыбкой на лице, ибо она была настолько смиренна сердцем и добра, что ее нежность к другим и пренебрежение к себе самой и своим страданиям выливались в ее взгляде в улыбку, которая, в противоположность тому, что видишь на лице большинства людей, содержала иронию лишь по отношению к себе самой, для нас же всех глаза ее посылали словно поцелуй: она не могла смотреть на тех, кого очень любила, не лаская их нежно взглядом. Эта пытка, которой подвергала ее моя двоюродная бабушка, это зрелище тщетных уговоров и слабости бабушки, наперед побежденной и напрасно пытающейся отнять у дедушки рюмку с коньяком, принадлежали к числу явлений, к которым впоследствии привыкаешь до такой степени, что смотришь на них со смехом и сам довольно решительно и весело становишься на сторону преследователя, убеждая себя, что тут нет речи о настоящем преследовании; однако в те времена все это наполняло меня таким отвращением, что я бы с удовольствием отколотил мою двоюродную бабушку. Но как только я слышал: «Батильда! Иди скорее, запрети твоему мужу пить коньяк!» — меня охватывало малодушие, и я делал то, что все мы делаем ставши взрослыми, когда перед нами открывается зрелище страданий и несправедливости: я предпочитал не видеть его; я поднимался поплакать на самый верх дома, под самую крышу, в комнатку, расположенную рядом с классной и наполненную запахом ириса, а также дикой черной смородины, выросшей среди камней наружной стены и просунувшей ветку с цветами в полуоткрытое окно. Имевшая назначение более специальное и более прозаическое, комната эта, откуда днем открывался вид до замковой башни Руссенвиль-ле-Пен, долгое время служила мне убежищем, — несомненно потому, что она была единственной, которую мне было позволено запирать на ключ, — для тех моих занятий, которые требовали ненарушимого одиночества: чтения, мечтаний, слез и наслаждения. Увы, я не знал, что гораздо больше, чем маленькие нарушения режима мужем, бабушку мою озабочивали мое слабоволие, мое слабое здоровье и обусловленная ими неверность моего будущего, о котором она размышляла во время этих бесконечных послеполуденных или вечерних прогулок, когда можно было видеть, как то появляется, то исчезает склоненное набок и несколько откинутое назад прекрасное ее лицо с коричневыми изборожденными морщинами щеками, ставшими с наступлением старости почти лиловыми, словно пашня осенью, прикрытыми, когда она выходила на улицу, наполовину приподнятой вуалью, причем на них, вызванная холодом или печальной мыслью, всегда высыхала невольная слеза.
Моим единственным утешением, когда я поднимался наверх ложиться спать, было ожидание мамы, приходившей поцеловать меня в постели. Но это пожелание спокойной ночи длилось так недолго, она так скоро спускалась обратно, что момент, когда я слышал, как она поднимается по лестнице, затем как по коридору, за двойной дверью, раздается легкий шелест ее летнего домашнего платья из голубого муслина, украшенного шнурочками плетеной соломы, был для меня моментом мучительным. Он возвещал мне о моменте, который наступит вслед за ним, когда она покинет меня, когда она будет спускаться обратно. В результате я стал желать, чтобы это прощание, которое я так любил, произошло как можно позже и время, пока мама еще не пришла, затянулось. Иногда, в то мгновение, когда, поцеловав меня, она открывала дверь, чтобы уйти, мне хотелось снова позвать ее, сказать ей: «поцелуй меня еще раз», но я знал, что после этого лицо ее станет сердитым, ибо уступка, которую она делала моей печали и моему возбуждению, поднимаясь поцеловать меня, принося мне этот поцелуй мира, раздражала моего отца, находившего этот ритуал нелепым, и она хотела как-нибудь отучить меня от этой потребности, от этой привычки, и вовсе не была склонна поощрять во мне другую дурную привычку: просить ее, когда она ступала уже на порог, еще раз поцеловать меня. А ее рассерженное лицо разрушало весь покой, который за мгновение перед этим она приносила мне, когда наклоняла к моей постели свое любящее лицо и подавала мне его, как гостию, для причастия мира, в котором мои губы вкушали реальность ее присутствия, дававшего мне силу уснуть. Но эти вечера, когда мама оставалась в моей комнате, в общем, так мало времени, были еще сладкими по сравнению с вечерами, когда к обеду ожидали гостей и когда, по этой причине, она не поднималась прощаться со мной. Гостем бывал обыкновенно г-н Сван, который, помимо нескольких случайных посетителей, был почти единственным лицом, приходившим к нам в Комбре, иногда к обеду по-соседски (что бывало сравнительно редко после этой странной его женитьбы, так как мои родители не хотели принимать его жену), иногда после обеда, без приглашения. Когда вечером, в то время как мы сидели перед домом под большим каштаном вокруг железного стола, к нам доносился с конца сада не громкий и заливчатый звон бубенчика, окроплявший и оглушавший своим металлическим, неиссякаемым и ледяным дребезжанием всех домашних, входивших и отворявших калитку «не позвонившись», но двукратное робкое, овальное и золотистое, звяканье колокольчика для чужих, то все вдруг спрашивали себя: «Гости! Кто б это мог быть?» — хотя все отлично знали, что это мог быть только г-н Сван; моя двоюродная бабушка, во весь голос, чтобы подать нам пример, тоном, который она силилась сделать естественным, говорила нам, чтобы мы перестали шушукаться, так как это крайне невежливо по отношению к посетителю, могущему подумать, что мы говорим сейчас вещи, которые он не должен слышать; на разведки посылалась бабушка, радовавшаяся всякому предлогу пройтись лишний раз по саду и пользовавшаяся им для того, чтобы украдкой вырвать по пути из-под розовых кустов несколько подпорок и придать им таким образом немножко естественности, словно мать, проводящая рукой по голове сына, чтобы взбить ему волосы, которые парикмахер слишком пригладил.