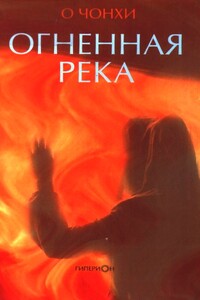Она покачала головой, поджав губы, — движение, которое мы обыкновенно делаем, когда, в ответ на чье-нибудь приглашение: «Вы пойдете посмотреть на кавалькаду? Вы будете на обозрении?» — мы хотим сказать, что не пойдем, что нам будет скучно. Но это покачивание головой, выражающее, таким образом, отказ от нашего участия в каком-нибудь еще не наступившем событии, вносит, по этой самой причине, некоторую неуверенность в отрицание нашего участия в событии прошедшем. Больше того: оно вызывает представление лишь о соображениях приличия, а вовсе не о принципаальном порицании, не о нравственной недопустимости. Когда Сван увидел этот знак Одетты, отрицавший его предположение, он понял, что в нем нет ничего невероятного.
— Я ведь говорила тебе; ты отлично знаешь, — прибавила она с видом раздраженным и обиженным,
— Да, я знаю; но вполне ли ты в этом уверена? Не говори мне: «Ты отлично знаешь», а скажи: «Я никогда не делала подобных вещей ни с одной женщиной».
Она повторила, как заученный урок, тоном ироническим и как бы желая, чтобы ее оставили в покое:
— Я никогда не делала подобных вещей ни с одной женщиной.
— Можешь ты поклясться мне на твоем образке Лагетской Богоматери?
Сван знал, что Одетта никогда не принесет ложной клятвы на этом образке.
— Боже, как ты мучишь меня, — воскликнула она, делая движение всем телом, точно желая освободиться от петли этого вопроса. — Ты с неба свалился? Что с тобой сегодня? Ты как будто поставил себе целью, чтобы я возненавидела тебя, прокляла тебя. Я хотела было восстановить дружеские отношения между нами, быть милой с тобой, как в прежние хорошие времена, и вот твоя благодарность!
Однако, не выпуская ее, как хирург, который ожидает конца спазмы, заставившей его прервать на время операцию, но ни в коем случае не отказаться от нее:
— Ты глубоко заблуждаешься, Одетта, предполагая, будто я хоть капельку сержусь на тебя, — сказал он мягко убедительным и фальшивым тоном. — Я некогда не говорю тебе о том, чего я не знаю, и я знаю всегда гораздо больше, чем говорю. Но ты одна способна смягчить, если сознаешься, вещи, наполняющие меня ненавистью к тебе, если я о них узнаю только от других. Причиной моего гнева на тебя является вовсе не твое поведение — я все прощаю тебе, потому что люблю тебя, — но твоя лживость, твоя бессмысленная лживость, принуждающая тебя упорствовать в отрицании вещей, мне известных. Но каким образом хочешь ты, чтобы я продолжал тебя любить, когда я слышу, как ты утверждаешь, клянешься мне в вещи, которая является заведомой ложью? Одетта, не продолжай этого мгновения, являющегося пыткой для нас обоих. Если ты хочешь покончить со всем этим сразу, ты навсегда будешь избавлена от неприятного тебе допроса. Поклянись мне на твоем образке, скажи да или нет, делала ты когда-нибудь эти вещи.
— Но откуда же я знаю? — вскричала она в бешенстве. — Может быть, очень давно, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, может быть, два или три раза.
Сван предусмотрел все возможности. Действительность есть, следовательно, нечто, не имеющее никакого отношения к возможностям, как нанесенный нам удар кинжалом не имеет никакого отношения к медленному движению облаков над нашей головой, ибо эти слова «два или три раза» как бы вонзились живой раной в его сердце. В самом деле, какая странная вещь: эти слова «два или три раза», простые слова, слова, прозвучавшие в пространстве на некотором расстоянии от Свана, оказались способными до такой степени поразить его сердце, как если бы они действительно коснулись его, могли сделать Свана больным, словно принятый яд. Невольно вспомнились Свану слова, услышанные им у г-жи Сент-Эверт: «Я никогда не видела ничего более потрясающего, кроме вращающихся столиков». Испытываемое им страдание не имело никакого сходства с тем, что рисовало ему воображение. Не только потому, что и в часы самого крайнего недоверия к ней он все же редко воображал такое глубокое проникновение в нее зла, но еще и потому, что, даже когда он воображал себе это проникновение, оно оставалось неопределенным, расплывчатым, не соединялось с тем беспредельным ужасом, который излучался из слов «может быть, два или три раза», лишено было своеобразной жестокости, настолько же отличавшейся от всего, что было ему известно, как болезнь, которой мы бываем поражены в первый раз. И все же эта Одетта, являвшаяся источником всего этого зла, была ему не менее дорога, напротив, стала более драгоценной, как если бы, по мере роста его страдания, росло также благотворное действие успокоительного противоядия, которым обладала одна только эта женщина. Он хотел окружить ее большими заботами, как мы делаем это по отношению к болезни, когда вдруг обнаруживаем ее серьезность. Он хотел, чтобы ужасная вещь, которую, по ее словам, она сделала «два или три раза», не могла больше повториться. Для этого ему необходимо было неусыпно наблюдать за Одеттой. Часто можно слышать, что, указывая своему другу недостатки его любовницы, мы лишь укрепляем его привязанность к ней, потому что он не придает никакой веры нашим словам; но если он поверит нам, привязанность его возрастет в несравненно большей степени. Но, спрашивал себя Сван, как уберечь ее от зла? Он мог, пожалуй, оградить ее от общения с определенной женщиной, но ведь женщин много, и Сван понял, какое безумие нашло на него, когда, не застав Одетты в памятный вечер у Вердюренов, он воспламенился никогда не осуществимым желанием обладать другим существом. К счастью для Свана, под массой новых страданий, нахлынувших в его душу как орды варваров, в существе его залегала некоторая естественная основа, более древняя, более мягкая, совершавшая молчаливую работу, вроде той, что совершают клеточки раненого органа, немедленно приступающие к восстановлению поврежденных тканей, или мышцы парализованного члена, стремящиеся по-прежнему производить присущие им движения. Эти более древние, более автохтонные обитатели его души на мгновение поглотили все силы Свана на ту подсознательную восстановительную работу, которая сообщает иллюзию покоя выздоравливающему или подвергшемуся операции больному. На этот раз ослабление напряжения, обусловленное истощением, имело место, вопреки обыкновению, не столько в мозгу Свана, сколько в его сердце. Но все, однажды испытанное нами в жизни, стремится повториться вновь, и, подобно издыхающему животному, вздрагивающему в конвульсии, когда агония, казалось, уже окончена, сердце Свана, пощаженное на одно только мгновение, вновь было поражено свежей раной, нанесенной ему стихийно возвратившимся прежним страданием. Он вспомнил те залитые лунным светом вечера, когда, растянувшись в виктории, отвозившей его на улицу Ла-Перуз, он сладострастно взращивал в себе эмоции влюбленного, не ведая, какой отравленный плод они неизбежно должны будут принести. Но все эти мысли длились у него в течение одной только секунды, времени, какое ему нужно было для того, чтобы поднести руку к сердцу, перевести дух и изобразить на лице улыбку, долженствовавшую замаскировать его муку. Уже он вновь начал задавать вопросы. Ибо его ревность, принявшая на себя тягостную обязанность, от которой отказался бы злейший его враг, — поразить его сокрушительным ударом, насильственно познакомить его с самым жестоким страданием, какое он когда-либо испытывал, — его ревность не считала, что чаша страданий выпита им до дна, и пыталась нанести ему еще более глубокую рану. Подобно злому демону, ревность вдохновляла Свана и толкала его к гибели. Если пытка его не стала с самого начала безысходной, то это случилось не по его воле, а лишь благодаря Одетте.