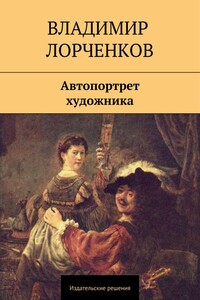В сторону Свана - страница 134
Словом, жизнь, которую вели у Вердюренов и которую он так часто называл „настоящей жизнью“, казалась ему теперь наихудшей из всех, а их „кружок“ составленным из последних отбросов общества. „Поистине, — говорил он, — это самая нижняя ступень социальной лестницы, девятый круг Дантова ада. Нет никакого сомнения, что величественные стихи флорентийца относятся к Вердюренам! Когда начинаешь думать обо всем этом, то приходишь к убеждению, что люди общества — как их ни ругают, они все же стоят бесконечно выше этой банды хулиганов — обнаруживают глубокую мудрость, отказываясь водить знакомство с ними и даже пачкать свои пальцы прикосновением к ним. Какая прозорливость в этом Noli me tangere[66] Сен-Жерменского предместья“. Он давно покинул аллеи Булонского леса и подходил уже к своему дому, но все еще, опьяненный своим горем и неискренним возбуждением, которое все больше и больше подогревалось фальшивой интонацией и искусственной звучностью его голоса, продолжал громко ораторствовать в тишине ночи: „У светских людей есть свои недостатки, и никто не знает их лучше, чем я; но, в конце концов, это все же люди, с которыми вещи известного рода невозможны. Та элегантная женщина, с которой я был знаком, далека от совершенства, но, в конце концов, она все же в глубине души является деликатной, лояльной в своем поведении, так что ни при каких условиях не была бы способна на вероломство, ее душевные качества вырыли бы пропасть между нею и такой мегерой, как Вердюрен. Вердюрен! Что за фамилия! О, можно сказать, что они совершенны, что они прекрасны в своем роде! Да, давно уже следовало прекратить общение с этими подонками, с этой мразью!“
Но — как добродетели, которые еще час тому назад он приписывал Вердюренам, даже если бы Вердюрены действительно обладали ими, но не оказывали содействия и не покровительствовали его любви, были недостаточны, чтобы вызвать у Свана горячее умиление их великодушием, умиление, источником которого, даже когда оно возбуждалось посредством других лиц, могла быть одна только Одетта, — так и порочность, будь она даже подлинной, которую он находил сейчас у Вердюренов, была бы бессильна, если бы они не пригласили Одетту с Форшвилем и без него, дать волю его негодованию и заставить его клеймить их „подонками и мразью“. И, несомненно, голос Свана обнаружил больше искренности, чем сам он, поскольку голос этот соглашался произнести слова, полные отвращения к Вердюренам и их кружку и радости по случаю разрыва с ними, только деланным, риторическим тоном, как если бы они были выбраны им скорее для утоления его гнева, чем для точного выражения его мыслей. В самом деле, мысли эти, в то время как он негодовал и бранился, заняты были, вероятно, хотя он и не сознавал этого, совсем другим предметом, потому что, едва только придя домой и закрыв за собой дверь подъезда, он вдруг хлопнул себя по лбу и снова выбежал на улицу, воскликнув на этот раз своим естественным голосом: „Мне кажется, я придумал способ добиться приглашения на завтрашний обед в Шату!“ Но способ этот оказался, вероятно, плохим, потому что Сван не получил приглашения. Доктор Котар, который, по случаю поездки в провинцию на консилиум к одному серьезному больному, не видел Вердюренов несколько дней и не мог быть в Шату, сказал на другой день после этого обеда, садясь за стол;
— Неужели мы не увидим сегодня Свана? Его действительно можно назвать личным другом…
— Надеюсь, что нет! — воскликнула г-жа Вердюрен. — Сохрани нас от него Бог, — он так убийственно скучен, глуп и невоспитан.
При этих словах на лице Котара изобразилось крайнее изумление, соединенное с полной покорностью, как если бы он услышал истину, противоречившую всем его доселешним убеждениям, но обладавшую непререкаемой очевидностью; испуганно уткнувшись носом в тарелку, он ограничился тем, что протянул: „А-а-а-а-а!“, последовательно пройдя, — в отступательном движении, выполненном им в полном порядке, по нисходящей гамме, — все ноты, заключенные в диапазоне его голоса. С тех пор у Вердюренов не было больше речи о Сване.