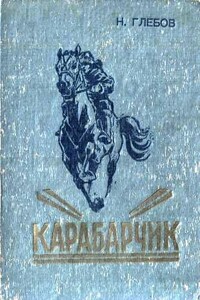Обняв Балашова, Федоско кивнул вслед сестре.
— Разводка. Понимай.
Липа внесла тяжелую гусыню и посадила ее под лавку в гнездо.
— Может, грибочков добавить? Почему плохо кушаете? — подсев к гостю, она подвинула ему пирог. Балашов подняв осоловелые глаза, увидел большой чувственный рот Липы с мягкими пунцовыми губами.
…Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобою… —
затянул тонким фальцетом Федоско и, отрыгнув, продолжал:
…Ужели меня ты не любишь?
Не любишь, так бог же с тобою…
Обняв Балашова, Федоско заговорил жалобно:
— Саша, друг, поедем мы с тобой в Магадан, в чужедальнюю сторонку. Может, иссушат нас злые ветры и мороз сведет суставы, но без денег не вернемся! — Скворцов блеснул злыми глазками и грохнул кулаком по столу. Стаканчики издали нежный звон. Липа испуганно посмотрела на брата, подтолкнула его под бок.
— Тятенька, — прошептала она чуть слышно.
У порога стоял высокий мужчина с мрачным взглядом.
— Родитель! — Федоско, поднимаясь на ноги, ударил себя в грудь обоими кулаками. — По случаю прихода Александра Гавриловича решили маленько выпить.
— Сбегай в потребиловку, купи еще пол-литра, — обратился отец к дочери и, повесив кепку, прошел к столу.
Липа, накинув платок, вышла. Старый Скворцов молча посмотрел на Балашова, перевел глаза на стол. Восхищенный Федоско хлопнул Сашу по плечу.
— Вот, какой у меня отец — орел. Ты думаешь, мало ему пришлось пострадать? — не обращая внимания на предупреждающие знаки старика, продолжал: — Из-за одних степановских сундуков сколько страху натерпелись! Ковры да меха — все надо спрятать да сбыть.
Нога Федоска под столом замоталась, ее сердито дергал отец.
— Тятеньку в ГПУ таскали, только он свое пролетарское происхождение доказал, а степановское золотишко — фьють! — младший Скворцов дунул на ладонь. — Пускай поищут, а мы знаем, где оно лежит!
— Брехун ты, брехун, — бросив трясти за ногу сына, сказал Скворцов. — Язык болтает, голова не знает. — Посмотрев на дремавшего Балашова, старик успокоился.
В отяжелевшей голове Саши роились бессвязные мысли: — «Олимпиада, Магадан, деньги мельника Степанова. Кто такой Федоско?» В пьяном тумане перед ним то вставало лицо Гриши Рахманцева, его укоризненный взгляд, то строгие, осуждающие глаза Андрея Никитовича, плутоватая мордочка Федоска, красные губы Олимпиады и суровый старик Скворцов.
Балашов тоскливо оглянулся и уронил голову на стол.
Проснулся он на незнакомой мягкой постели и, приподнявшись на локте, посмотрел в окно. Невидимые лиловые лучи солнца, окрасив облака, медленно уходили на запад. Тени сгущались. По двору прошла с лукошком Липа.
— Ку-уть, куть, ку-у-уть, — точно пела она.
В соседней комнате говорил старший Скворцов.
— Тянуть нечего. Чем раньше сыграем в городки, тем лучше, а песни о Магадане петь тебе хватит. — Отец Федоска слегка прихлопнул ладонью по столу.
«О каких городках он говорит? — пронеслось в голове Саши. — Выходит, поездка в Магадан лишь уловка? Ничего не понимаю». Балашов стал внимательно прислушиваться.
— Тять, ты сам знаешь, что не за нами дело стоит. Планировку площадки цеха они только завтра закончат, — послышался голос Федосея.
— Ладно! Буди своего друга. Пора ему вставать.
Вошел Федоско и начал бесцеремонно трясти Сашу за плечо.
— Сашка, вставай!
Гость открыл глаза и протяжно зевнул.
В избе сидел отец Федосея. Тупое лицо, тонкие губы, над которыми висел круглый, как картошка, нос, пустые запавшие глаза, широкие плечи, толстые, точно обрубленные пальцы рук. Он рядом со щуплым сыном казался большим неуклюжим медведем.
— Ну, как спалось? — повернувшись к Балашову, весело спросил он.
— Голова болит, — сумрачно отозвался Саша.
— Сейчас полечимся, — старый Скворцов вынул из-под лавки бутылку вина.
— Липа, собери-ко на стол! Мать-то у нас уехала погостить к своим. Дочь за хозяйку осталась, — объяснил он Балашову.
Саша сел за стол. На душе было муторно. Куда он попал? Чтобы отвлечься от своих мыслей, Балашов выпил и взял гармонь.
— Липа! А ну-ка уважь отца!
Олимпиада вышла из-за стола и, слегка притопывая, как бы неохотно прошлась по кругу. Саша играл, склонив голову на плечо, упиваясь звуками гармони.