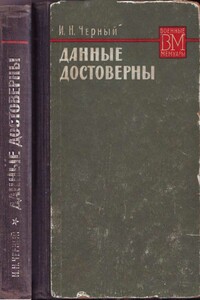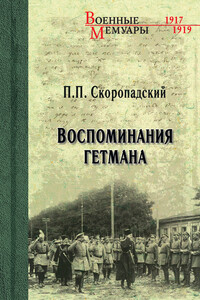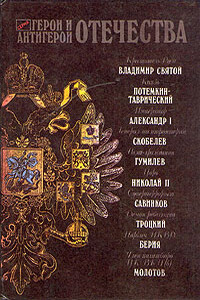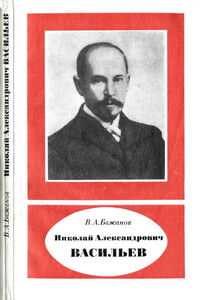После этого разговора я со всей отчетливостью понял трагичность положения. Запасов не было, оружейные заводы обладали слабой производительностью, закупить большие партии винтовок с надлежащим количеством патронов не удалось. Вся надежда теперь возлагалась на русского солдата, на его умелое, бережное обращение с винтовкой.
Мне было дано несколько дней, чтобы подготовиться к новой командировке. Я использовал их прежде всего для того, чтобы хорошенько ознакомиться с данными о запасах оружия.
В оружейном отделении Главного артиллерийского управления мне предоставили все необходимые материалы. Тогда предо мной и раскрылись те, казалось бы, сухие и лаконичные цифры, которые красноречивее всяких слов говорили о нуждах царской армии.
Согласно положению, разработанному мобилизационным комитетом Главного управления генштаба, в войсках и запасах должно было состоять 4 559 003 винтовки и карабина. В действительности накануне войны в наличии имелось 4 652 419 экземпляров. Формально все было в порядке.
В чем же была причина катастрофы в снабжении армии винтовками? Она заключалась в недостатке тех запасов, которые были установлены для пополнения убыли винтовок от повреждений и утерь. Об этом говорили другие цифры. Для пополнения убыли по расчетам генштаба было выделено всего около 600 тысяч винтовок. Между тем средняя убыль составляла 200 тысяч винтовок в месяц. Выходило, что положенных запасов могло хватить всего на три месяца войны. Невиданный размах мировой войны вызвал и небывалую потерю оружия на полях сражений. Количество утраченных винтовок во много раз превосходило все те нормы, которые были установлены по опыту прежних войн.
В этом просчете и была главная причина катастрофы!
С другой стороны, в горячке первых дней мобилизации под ружье взяли значительно больше людей, чем требовалось для укомплектования армии. Военный министр Сухомлинов 31 июля 1914 года приказал сформировать вновь 117 лишних запасных батальонов с двойным составом, по 2 тысячи человек в каждом, а в существующих батальонах добавить 224 дополнительные роты
по 250 человек в каждой. Эти новые формирования в 300 тысяч человек, не предусмотренные ранее, заставили выделить некоторое количество оружия для их обучения. Для вновь сформированных батальонов не было ни помещений, ни кухонь, ни оружия.
Вспомнилось мне одно заседание в генеральном штабе, на которое я попал совершенно случайно в 1912 году. Приехал я как-то из Ораниенбаума, с ружейного полигона. Внезапно меня вызвал к телефону помощник начальника Главного артиллерийского управления по личному составу генерал Завадский.
— Начальник управления заболел, — сказал Завадский, — и предложил мне отправиться вместо него на заседание в генштаб по поводу запасов винтовок. Но я в этом деле абсолютно ничего не понимаю и без оружейника не поеду. Прошу вас, Владимир Григорьевич, помочь мне. Через пятнадцать минут надо выезжать.
— Но ведь это дело снабженческое, — возразил я. — Как работник комитета я понимаю в этих вопросах столько же, сколько и вы. Надо позвонить кому-нибудь другому из соответствующего отделения.
— Уже звонили. Одних не застали, а у других нет телефона. Надо ехать. Начальник управления приказал просить вас об этом.
Пришлось согласиться...
Блестящий белый зал был залит ослепительным электрическим светом. На фоне этой белизны резко выделялись черные сюртуки с серебряным прибором и аксельбантами членов генштаба. Присутствовали и начальники довольствующих управлений — интендантского, инженерного. Совещание открылось под председательством генерала Эверта. Докладчиком был генерал Данилов, занимавший впоследствии пост генерал-квартирмейстера ставки во время войны. Он доложил о результатах пересмотра запасов винтовок на случай войны. Ничто не нуждалось, по его мнению, в каком-либо изменении. Генерал Данилов предложил только увеличить количество оружия для запасных батальонов, добавив около 300 тысяч винтовок. Докладчик совершенно правильно оценил, что положенных запасов на случай потери и убыли оружия недостаточно. Но предложенное им увеличение оказалось, по опыту войны, слишком мизерным. Затем генерал Данилов быстро перешел к другому вопросу. Он обратил внимание собравшихся на слишком близкое расположение Сестрорецкого оружейного завода к финляндской границе. Подчеркнув, что в случае высадки немцев в Финляндии не исключена возможность перерыва в работе завода, Данилов предложил перенести Сестрорецкий завод в глубь России.