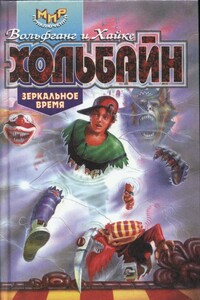— Во тьме кромешной, — бормотала она. — И голов не переломають! И все ташшуть! И все ташшуть! Я наживала, а оне ташшуть! Штоб оне лопнули, проклятушшие!
— Скажите спасибо, что тащут! Было бы в вашем доме голодно, нас бы так легко не пустили в муравейник. Муравейник сыт-сытехонек, а сытый он гораздо спокойнее и доверчивее!
Говоря это, Людвиг Иванович водил по стенам тоннеля лучом фонарика. Что ни говори, это не походило ни на что человеческое. И не только потому, что на укрепление стен здесь пошли самые разные материалы: глина, камешки, песчинки, щепки, стеклышки, соломинки. Все это для путешественников, которые сами были не больше муравьев, выглядело как бетонные плиты, каменные глыбы, бревна, балки. Были и какие-то материалы, которые напоминали то фанеру, то железо, а то и вовсе ни на что не походили. Человек, если у него мало материала, тоже строит иногда хибары из чего придется — из досок, фанеры, заржавленных листов железа. Но эти хибары и дребезжат, и холодно в них. Здесь же все было сцементировано, скреплено каким-то неведомым раствором. Путешественники знали, что находятся глубоко под землей, и не только под землей, но и под непредставимо громадным домом. И все-таки не было ни холодно, ни душно. Было, правда, влажно, но откуда-то веяло свежим воздухом и теплом. К запаху же, кисловато-острому, они уже начали привыкать, и он их не раздражал, как вначале.
Бабушка Тихая, сняв с плеч антенну-коромысло, подошла ближе к стенке, принюхалась и поколупала.
— Вы, оказывается, тоже любознательны, — сказав Людвиг Иванович.
— Я не лунознательная, — сердито фыркнула Тихая. — Ето, кому делать нечего, лупятся. А я крепость пробую. Скоро, чай, как хватются нас, така бомбежка пойдеть, што надо проверить бомбоубежище.
Людвиг Иванович нахмурился. Он и сам боялся, что в поисках их начнут вдруг пол взламывать. Мало ли что придет в голову людям, ошарашенным исчезновением сразу пяти человек. Нужно было уходить вглубь. Да и Фима, надо думать, был где-то глубоко в погоне за своими загадочными феромонами.
— Экипаж! — скомандовал Людвиг Иванович.
— О, экипаж! Какое французское слово! — воскликнула, прикрывая глаза, Бабоныко, а Тихая поджала губы и взвалила на плечи антенну.
Они двинулись в глубь тоннеля под песенку, которую на ходу сочинил Людвиг Иванович:
Начинаем вояж, веселей экипаж!
При любых обстоятельствах больше кураж,
или, скажем по-русски, мужества!
С этажа на этаж
поспешай, экипаж!
Задержать нас не в силах ни темень, ни страж,
мы сильны, мы могучи содружеством!
Бабоныко как раз подхватила, перепутав, конечно: «Мы сильны, мы могучи супружеством!», как вдруг к ней подскочил муравей и принялся щекотать ее антенной.
— Ха-ха-ха! — залилась нечеловеческим хохотом Бабоныко. — Ой, что он делает, ой, не могу! Ой, ха-ха-ха! Ой, ха-ха-ха!
Растерявшиеся попутчики остолбенели; неожиданно Бабоныко, продолжая хохотать с подвыванием, закатила муравью увесистую пощечину. От такой пощечины даже здоровый мужчина свалился бы с ног, но муравей только пошатнулся и вдруг выплюнул прямо в лицо Бабоныке струю ароматной жидкости.
— Он пьян! — возмутилась Матильда Васильевна. — Он совершенно пьян! Что у них, милиции нет?!
Муравья уже и след простыл, а Бабоныко все еще вытирала своим грязным кружевным платочком лицо:
— Это возмутительно! Это выходит из рамок! Это вне всяких приличий!
Между тем Тихая, стоя возле нее, все беспокойнее поводила кончиком носа. Наконец она подошла вплотную, чуть не уткнувшись в Матильду Васильевну, провела по ее щеке пальцем и облизала его. Бабоныко замерла на полуслове, а Нюня всплеснула руками:
— Бабушка Тихая, что вы делаете? Как вам не стыдно!
— Ето кому, мине стыдно? — обернулась к ней Тихая. — Свое собственное добро исть стыдно? У прошлый год кизиловое варенье сварила, так ети насекомые и до него добрались!
— Трофаллаксис! Вспомнил! — вскричал Людвиг Иванович. — Это называется трофаллаксис! Все, что поедают муравьи, расходится по всему муравейнику. Не возмущайтесь, Матильда Васильевна, муравей вас принял за собрата, просил поделиться тем, что съели вы, а вашу пощечину принял за такую же просьбу и отдал вам то, что имел.