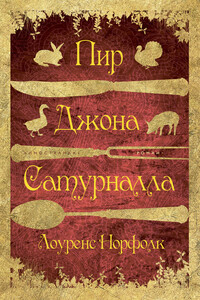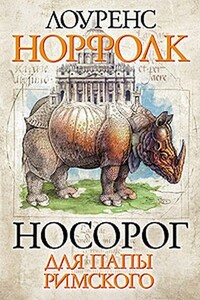Однако, пока Михайлович медленно, но верно обследовал те места, в которых происходило действие поэмы, он нашел двух свидетелей, куда более убедительных, чем молчаливые горы или не в должном порядке рассаженная растительность среднегреческой загородной природы. Первый был — эмигрировавший в Америку грек, который вернулся на родину в 1937 году и утверждал, что во время войны сражался вместе с Зервасом, пока не охромел в результате ранения. Какое-то, весьма недолгое время он работал переводчиком в британской военной миссии в Мессолонги и в 1945 году присутствовал на допросе некоего молодого человека — вел допрос офицер британской разведки. «Да это, собственно, был и не допрос. Так, чайку попили и поболтали о войне. И переводчик ему был совсем не нужен. С английским у него все было в порядке. Лучше моего», — процитировал Михайлович своего свидетеля.
А чаю тогда так и не дали, подумал Сол, вспомнив этого человека и британского капитана, который его допрашивал.
Не потребовавшийся в тот раз переводчик запомнил имя этого молодого человека, а вот лица не запомнил и не смог опознать Сола по фотографии. Честно говоря, он мог бы вообще не вспомнить об этом эпизоде, если бы речь не зашла о Фиелле. «Конечно, кто же не слышал тогда о Фиелле; в те времена столько всяких слухов о ней ходило, — сказал он журналисту. — И никто не знал, что с ней в конце концов случилось. И о полковнике Эберхардте они тоже говорили. Единственное, что нам было о нем известно, так это что он эвакуировался вместе со всеми прочими. И этот молодой человек тоже собирался уезжать. Бумаги ему уже выправили американцы».
Второго свидетеля Михайлович встретил по чистой случайности. Журналист отправился на север, в горы, в нарушение установленных военными правил перемещения в этом районе. Но чем больше вопросов он задавал, тем менее разговорчивыми делались деревенские жители. Иногда эта неразговорчивость перерастала в откровенную тревогу. Если он становился слишком настойчив, ему угрожали, а из одной деревни даже выгнали вон. Он вернулся по собственным следам в Карпениси, где у него вышла ссора с проводником, после которой его арестовали и продержали под замком до утра. Здесь наконец странные реакции поселян получили более или менее внятное объяснение. Начальник местной полиции бросил ему в припадке раздражения, что «вот где у него сидят эти сумасшедшие немцы» — прежде чем принять штраф и отпустить куда глаза глядят. Ему напомнили, что иностранцам без особого разрешения находиться в этом районе запрещено — и посадили на автобус, идущий назад в Мессолонги.
Остаток этой детективной истории Михайлович раскатал еще на целую страницу, хотя исход ее был в принципе уже ясен. Взяв для начала несколько ложных следов, он в конце концов загнал нужного ему зверя в Навпакте. «Сумасшедшим немцем» оказался, естественно, Якоб, хотя путешествовал он с израильским паспортом. Его госпитализировали в порту после «нервного срыва», если верить доктору, который его пользовал. Была цитата и из доктора:
«Его привезла женщина, которая представилась его женой. Что-то там такое с ним приключилось прямо на квартире. Он был не в состоянии дать сколько-нибудь связный отчет в своих действиях, а женщина откровенно мешала. Упадок жизненных сил у него был полнейший. Вдобавок — параноидальный бред, которого он не отличал от реальности. Мы давали ему успокоительные. Он провел здесь четыре дня, после чего из Афин пришла карета „скорой помощи“ и увезла его».
«И это, — саркастически заметил Михайлович, — тот свидетель, которого мы предпочли Соломону Мемелю».
Статья заканчивалась полномасштабной атакой на «доморощенных комиссаров от культуры», которые проявили столько рвения, чтобы опорочить одного из лучших поэтов Европы, после чего Михайлович раскланивался, выразив надежду, что теперь они проявят ничуть не меньше рвения, чтобы загладить свою вину.
— А почему же вы ни разу не задались вопросом, он это сделал, господин Михайлович? — сказал Сол, вслух, по-немецки, вызвав недоуменный взгляд со стороны бармена.
Он закрыл журнал, положил в блюдечко несколько монет и вышел на улицу.