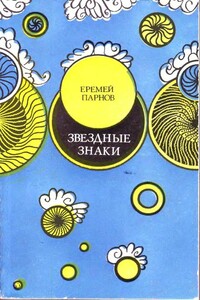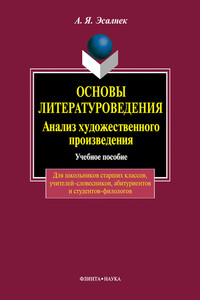Листва рябин привяла. Среди ее зеленоватой оржавленности висели ягоды. Те что покраснев были ничего себе на вкус, но желтые пронзительно и горько кислы. За этими жиденькими рябинами поднималась крыша лесной сторожки.
На ней росла березка, уже оголившаяся.
Мы остановились (а надо было уходить — все бы тогда было в порядке).
Отец поправил на плече мешок, называемый «сидором», а я опустил на траву оглобельки тележки.
Мы стояли и смотрели на сторожку.
Деревенские не врали, называя ее развалюхой: труба ее заржавела и погнулась, ставень висел, открыв радужное стекло, похожее на лужицу около бензоколонки, крыльцо проросло травами. Старик говорил: абсолютно неизвестно, что нужно сторожить здесь, в двадцати верстах от ближней деревни, и деревенские люди правы, называя ее развалюхой.
Я кивал ему: Старик был молодец!
Эта поездка спасала меня от школы и давала возможность жить в лесу вместе с отцом целый месяц.
Редкий случай! Мой Старик — профессиональный фотоохотник, он вечно мотается. Это лето, к примеру, снимал чешуекрылых Алтая. Бабочек.
И покосившаяся, темная изба показалась мне обомшелым чудом, стоящим (для меня) среди восхитительно пустого огорода с редкими гнездами увядшей картошки.
Я прямо-таки дурел от радости.
…Мы стояли. Старик говорил своим застуженным голосом, что вот сейчас мы войдем не в сторожку — в свою новую, лесную жизнь. И будет видно, хорошо ли нам в этом лесу и сторожке. А нет, так уйдем отсюда и поживем в стогах.
Мой Старик всегда так: если перед вами хорошее, он напомнит о том, что оно может быть плохим, и наоборот.
Я слушал и пялился на голубые старые доски, на травинки, прицепившиеся к ним, на ржавые моховые подушечки, что легли в щели.
И думал, что друг Петька и во сне не увидит такую замечательную сторожку. Мне хотелось дико заорать и подпрыгнуть.
Но я стоял молча — Старик был рядом.
Мы открыли дверь, вошли в сторожку. Сначала я, затем отец.
В окошко величиной в тетрадь пробивался свет. Спящим медведем виделась кровать, заваленная вязанками травы, высохшей до ржавого цвета.
Пол был удивительный, горбыльный. Печка, сделанная из железной бочки, стояла на громадной глиняной лепешке. В ней кто-то ворочался. Кто? Я ждал птицу, но вылезла крыса с большим вялым хвостом.
Она провезла хвост к двери и выскочила наружу. И мы остались вдвоем с отцом.
— Вот, — сказал мой Старик. — Здесь-то мы с тобой и поживем. (А лучше было уйти в стога!)
— Крыса… Недобрая это примета…
Он задумался, поджимая губы. А мне было хорошо — и никаких! Плевать, что я задержался на год в восьмом из-за схваченного зимой плеврита и мне перестала даваться математика.
Плевать на крысу, жившую в печке!
Здесь хорошо, и все!
— Я бы жил здесь лет сто!
— Тогда займемся делом.
И до позднего вечера мы возились в лесной сторожке.
Старик вычистил печку — я пучком сосновых веток подмел пол, травой заткнул дыры в стенах.
Старик переделал кровать.
Он выбросил ржавую труху, оставил голые доски (они лежали на четырех сутунках). Я с поля на тележке привез здоровенный ворох соломы.
Ездил несколько раз.
Я исцарапал соломой руки и вспугнул огромнейшего зайца. Даже глазам не поверил: во какой был заяц!
Это был здоровенный, как собака, заяц-русак!
Он ускакал от меня с презрительной медлительностью. Будто знал, что ружье Старик мне не дает.
Заяц скакал, только хвост мелькал. Я схватил валявшуюся палку, но из леса выскочила собака, грязная и куцая. И погналась за ним в молчании. Я так изумился, что не засвистел ей, не крикнул.
…В тот вечер я утопил сторожку в золотых ворохах соломы.
Затем мы поужинали хлебом и помидорами и легли спать.
Я было начал рассказывать Старику о зайце и собаке, но прислонился к горячей и широкой его спине и уснул.
И не успел увидеть сна — меня будили дым и холод.
Я сел, промаргивая глаза, и увидел: Старик стоял на коленях перед печкой. Он раздувал огонь, покашливая от дыма.
Красные отсветы мяли и плющили его лицо.
Еще я увидел солнце в окне и крохотного мышонка, сидевшего на полу, в солнечном пятне. И мне стало весело продолжением вчерашней веселости.
Я проскочил мимо отца, выбежал на крыльцо и вспугнул с ближней осины черного тетерева.