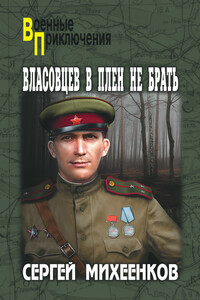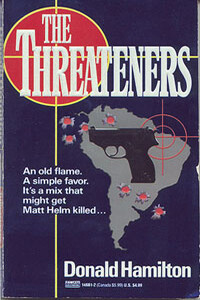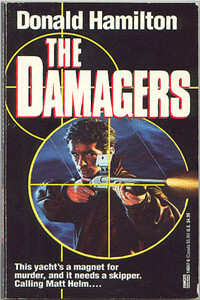— Брось, Фридрих, мы уже разделались с ними! Если они разбегаются от нас, то потом им уже в кулак не собраться. Как вы с ними справились в крепости?
— Половина нашего отряда пустилась бежать к берегу речки, которая раздваивается, образуя остров, и называется Мухавец. Нас преследовали, прижали к берегу. Мы пытались спасаться вплавь: нас убивали, кто оставался на берегу, тех тоже убивали. Я спасся чудом, притворившись мертвым и пролежав весь день, только на следующую ночь проплыл под водой к восточному валу. А в крепости русские, как сумасшедшие, сопротивлялись отчаянно, бессмысленно еще двадцать девять дней. Сколько там наших солдат полегло! Они не хотят знать правил войны!
«Да, вот оно, наше первое "Бородино"! Наша непреклонная воля, презрение к смерти. Солдаты идут в штыки на автоматы, с бутылкой горючей смеси на танк…» — И Денисенко еще долго стоял, прислушиваясь к беседе немецких офицеров, глядя на пожарища, разбитые вокзалы, искореженные железнодорожные пути, лачуги с соломенными кровлями, заросшие кустарником овраги.
У мостов сереют, будто покрытые паршой, минные поля, кое-где поросшие колючим чернобылом. По всему видно, что и люди здесь живут суровые, колючие.
…Светит осеннее солнце. В его белесом свете чудится жуткий отблеск смерти. Поезд катит из долины в долину, мимо исчерченных тенями берез и елей, унылых пепельно-серых полей, прямо на север. Справа время от времени поблескивает река. Здесь Днепр неширок.
Паровоз часто притормаживает, словно никуда не спешит. У переездов и мостиков, вдоль полотна, сереет паутина проволочных заграждений, кое-где стоят бункеры, из их амбразур поблескивает вороненая сталь. Разгуливают с автоматами хмурые охранники в серо-зеленых шинелях, поглядывая на проходящий поезд.
В Орше стояли долго. Мимо мчатся составы с танками, машинами, длинноствольными пушками, солдатами. Наконец поезд трогается без сигнала, будто выкрадывается, и постепенно набирает скорость. И вдруг снова останавливается. Паровоз, жалобно плачет, его надрывный гудок разносится широким веером причитаний по долине и прячется где-то за холмами.
Напротив стоят теплушки. Мордастые стражи отодвигают двери в ожидании приближающейся колонны людей. Она ползет серой, безликой лентой, мужчины в ватниках, в стоптанных кирзовых сапогах, истрепанных дерюгах, женщины в пальтишках, закутанные в платки, идут, едва переступая ногами, будто вытаскивают их из грязи. В их глазах тоска, слезы и злоба. Стражи встречают их возгласами, похожими на лай: «Лос, лос!» — и заталкивают в вагоны.
«Собственные выкрики и ругань разжигают ненависть в них самих, это глубоко продуманная, испытанная система со своими запевалами и дирижерами», — думает Денисенко, поглядывая на Околова и Гункина, и цедит:
— Их глаза как ножи.
— Во время войны законы безмолвствуют, — строго произнес Околов. — Это все пособники партизан. Придется ко всему привыкать.
Николай Гункин, вытянув длинные ноги, уныло уставился в сторону. Мягкие губы его плотно сжаты. За очками не видно глаз. Михаил Ольгский углубился в книгу.
Поезд дернулся, застучали буфера. Видимо, машинист, глядя на все это, срывает злость на паровозе или на пассажирах. И снова мелькают причудливые очертания холмов, вытягивающихся в целые гряды, и столь же причудливые озерные котловины, переходящие в заболоченные полевые и лесные равнины. Та же глушь и безлюдье.
В Витебск прибыли 2 ноября. На вокзале группа разделилась. Околов не терпящим возражения тоном сказал:
— Ты, Миша, и вы, Николай Федорович, отправляйтесь на Большую Революционную сорок четыре. Спросите Кабанова Георгия Родионовича. Скажите, от меня. Пароля не надо. Это тот, что бежал из черновицкого ДПЗ. А мы, — он обратился к Алексею Денисенко, — пойдем на Марковщину. Встретимся вечером на Ветеринарной.
Они разошлись у трамвайной остановки. Глядя вслед шагавшему, как журавль, Гункину, Денисенко бросил:
— Вялый он, Николай, какой-то.
— Ничего, Гункин будет у нас связным. И ты ему поможешь. Мы ведь с Ольгским дня через два-три едем дальше, в Смоленск, — объяснил Околов.
— Мы вдвоем, что ли, останемся? — удивился Денисенко.