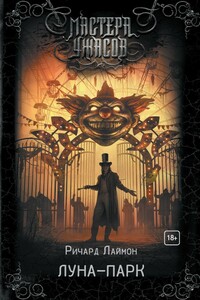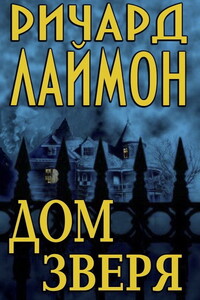На несколько долгих секунд существо замерло, словно барсук, которого окружили в собственной норе. Затем оно, казалось, поняло, что свет и шум никуда не денутся и сейчас появятся мужчины, с которыми ему не справиться. Мужчины, которые могут загнать его в могилу и замуровать там навсегда, уничтожить его, стереть с лица земли. И хотя непроницаемое выражение лица не изменилось, я понял, что оно пришло в отчаяние.
В следующий момент оно, прихрамывая, быстро направилось через неф к алтарю. Я услышал скрежет ворот, ведущих в склеп, и оно исчезло.
Через несколько секунд со стороны крыльца темноту прорезал луч фонаря. Раздался какой-то шорох, и все лампы включились; должно быть, сержант Уоткинс знал, где находится главный рубильник. А потом помещение наводнили люди в плоских кепи и синей форме.
— Где? — спросил Майк Уоткинс.
Я кивнул в сторону решетки, окружавшей вход в склеп. Он подошел туда, вытащил что-то из кармана и защелкнул это на воротах. Он взглянул на меня многозначительно, и я кивнул. Есть вещи, которым лучше не появляться в записных книжках полицейских, хотя бы ради начальника полицейского управления и членов суда.
— Откуда у вас замок? — спросил я.
— Я конфисковал его как вещественное доказательство, — уныло ответил он. — Но лучше вернуть его туда, где его место. Не думаю, что у нас здесь есть еще проблемы, а вы?
Я покачал головой, но на всякий случай негромко позвенел старым замком.
В дальнем углу собрались люди в синей форме; они расступились — кого-то выводили наружу.
Доринда была белой, как простыня, она молчала и глядела в пространство — все признаки сильнейшего шока. Но она по крайней мере могла переставлять ноги.
— Я вызвал «скорую», — сказал сержант Уоткинс.
Мальчики вышли вслед за Дориндой, с такими же белыми, бессмысленными лицами. Только Генри смог собраться с силами, выдавить некое подобие улыбки и прошептать:
— Боже, сэр, вы его едва надвое не разнесли…
Я поехал на «скорой» с Дориндой; мальчики отправились в полицейской машине. На полпути она открыла глаза и узнала меня.
— Джефф… спасибо.
Но это была не та Доринда Молино, которую я знал. Непоколебимая уверенность в себе исчезла; исчезла убежденность в том, что всему можно найти разумное объяснение.
— Я никогда не понимала… — Она закрыла глаза и смолкла, затем продолжала: — Я думала, что, если ведешь себя достойно… выполняешь все правила… Бог не допустит, чтобы такое… с тобой произошло.
Я не стал спрашивать, что именно произошло с ней. Я просто сказал:
— Бог же позволяет, чтобы каждый день происходили автокатастрофы. А почему в этом случае все должно быть иначе?
— Да, — сказала она с печалью, которую ожидаешь услышать в голосе очень старой женщины. — Да. — Она взяла меня за руку и начала перебирать пальцы. — Вы нравитесь мне — вы теплый.
Она не выпускала мою руку, пока мы не добрались до больницы.
Майк Уоткинс присоединился ко мне в коридоре со своей записной книжкой.
— Предполагаю, вам нужно имя и адрес подозреваемого? — спросил я в жалкой попытке пошутить.
— Только из личного интереса.
— Должно быть, это старик Энсти, аудитор. Это же был склеп Энсти.
— Ну, спускаться и проверять я не собираюсь — даже за жалованье суперинтенданта. Но я не думаю, что это Энсти. Его памятник тоже размалевали. И я видел его портрет в старости — элегантный худощавый джентльмен с густыми седыми волосами.
— У того, что я видел, не было седых волос. — При этом воспоминании меня передернуло. — Тогда как вы думаете, кто это был?
— Единственный оставшийся неприкосновенным памятник принадлежит Томасу Дору.
— Почтенному и усердному школьному учителю и благотворителю этого прихода…
— …который продолжает публично обличать грехи…
— Подавленные сексуальные желания — жуткая вещь, — сказал сержант Уоткинс, — В Брэмшилл-колледже нам рассказывали, к чему это приводит. Я сейчас не против пинты пива и партии в дартс. Не волнуйтесь, Джефф. Он больше не выползет оттуда. Я поговорю с викарием. Он нам поверит… в отличие от всех остальных.
С тех пор я не оставлял Доринду. В конце концов она даже смогла заходить в ту церковь — если я крепко держал ее за руку. Она сделала это как раз перед тем, как нас обвенчали. И это был последний день