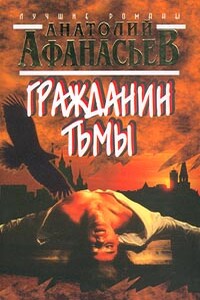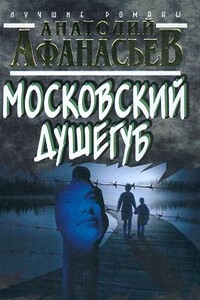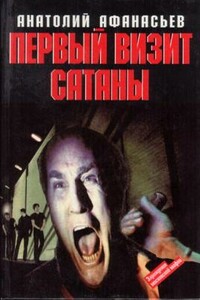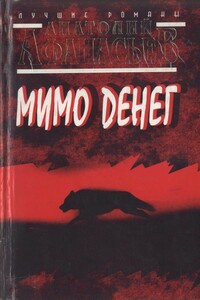Водитель газанул, впритирку объехал БМП.
Маленькое происшествие развеселило Колдуна.
– Ты что, совсем очумел, Палыч? Зачем из машины попер?
Хомяков поворошился на сиденье, тяжело дыша.
– Черт его знает.
– Ну и как себя чувствуешь?
– Да никак. Пару ребер вроде сломали… Ничего особенного. Наплевать.
– От кого ожидал, только не от тебя. Как ты еще до сих пор сохранился при такой сноровке.
Палыч расшатал и выплюнул изо рта три окровавленных зуба, аккуратно сложил в носовой платок и убрал в карман.
– Иной раз не угадаешь, как лучше, ей-Богу. А ну, как фугасом бы пальнули?
Никодимов наставительно заметил:
– Самомнение у тебя большое, Палыч, зато умишка кот наплакал. С какой стати фугас, ежели у нас на машине красные номера?
– Значит, бес попутал, – признался Хомяков.
Прибыли на окраину, где на отшибе от домов темнело низенькое кирпичное строение, то ли амбар, то ли подстанция. Чтобы ни у кого не оставалось сомнения, на углах здания красовались крупные черные буквы "М" и "Ж". Видно, эти "М" и "Ж" давно никто не посещал, к кирпичной коробке вилась еле приметная тропка.
– Узнаю Харитона, – радостно прокудахтал Никодимов. – Где дерьма побольше, там и он.
Машину он отправил домой, велев вернуться через три часа. Гуськом побрели по тропке, причем занедуживший Палыч цеплялся за куртку Розы Васильевны.
Мышкин наблюдал за гостями через узенькое окошко-бойницу. Железная дверь в стене будто сама собой перед ними отворилась. Переступив порог, они очутились в небольшой освещенной прихожей, как в обыкновенной городской квартире, даже с вешалкой для одежды и подставкой для обуви на полу.
Мышкин стоял в дверях и казался огромным, как выставленный шкаф. Никодимов старым козленочком подкатился к нему, утонул в его объятиях.
Их встреча умилила Розу Васильевну, хотя она и виду не подала.
– Пес меченый, – нежно бормотал старик, – живой!
Вот не чаял свидеться. Надеялся, а не чаял. Значит, вернулся. Значит, еще покувыркаемся.
В тон отвечал Мышкин:
– Что ты, что ты, брат Степан, еще повоюем. Еще попьем водочки с хлебцем.
Рядом в басовом ключе гудел маленький, сморщенный, с окровавленной мордой Палыч:
– Ах, хорошо, ах, славно, какие люди сошлись!.. Гонят нас, ребра ломают, зубья крушат, а заглянешь в сортир – и снова будто в раю.
Мышкин и его приветил. Отпустив Колдуна, ласково потрепал по волосам.
– Здорово, здорово, моряк… Как же ты, однако, не уберег Тарасовну? Надеялся ведь на тебя.
– Нет моей вины, Харитон. Сила солому ломит. После твоего отбытия они в город хлынули, аки саранча. Тарасовну ты лучше меня знаешь. Она хоть и баба, да неусмиренная, Попала под каток, вот и смяли.
– Ладно, ладно, после обсудим… Прошу в комнату, корешки отозванные.
Уселись за накрытым столом – водка, закуска, ничего лишнего. Роза Васильевна подала посуду – чашки, рюмки, тарелки, вилки с ножами. Чокнулась с мужчинами лишь по первой, потом, по восточному обычаю, переместилась в дальний угол, оттуда внимательно наблюдала за застольем: не надо ли кому чего.
Пир потянулся печальный: помянули Тарасовну, выпили за встречу, а также за Русь-матушку, поруганную кремлевскими сидельцами. Говорили поначалу мало, только разглядывали друг дружку, будто все разом вернулись с того света. У Мышкина бельмо лучилось весенним огнем. Нет-нет да и взглядывал коротко в угол, и Роза Васильевна, внутренне обмирая, отвечала ему спокойной улыбкой.
В эти бегучие дни далеко они продвинулись в любви.
Что спали вместе, это просто, это обыденка, другое чудно – зародилась меж ними волшебная искра, которая обоим не давала покоя, жгла душу. Не верили оба, что так бывает в поздние годы. Общая лампочка зажглась, невидимая никому, кроме них. "Ты хоть всю меня выпей, – сказала Роза Васильевна прошлой ночью, – все равно будешь чужой человек. Отчего же так сердце болит, Харитон?" Он ответил: "Так рассуждать глупо. Кто чужой, кто свой – нам ли судить". Мышкину было хуже, чем ей.
За долгие годы бродяжеств он привык к тому, что в женщине нет смысла, кроме того, что она может быть попутчицей на какой-то срок, а также, при взаимном хотении, нарожать детей. Но детей он так и не завел, не встретил ту, от которой могло возникнуть такое желание. А теперь-то что? Теперь поздно думать о переменах в судьбе. В шестьдесят лет мужик не тот, что в двадцать. Смолоду он мчится куда-то как оглашенный, все ему мерещится счастье за поворотом, а к седым годам проседает наземь, смиряется с неизбежным, и дни летят, как бумажные галочки, пущенные из окна. Но когда Мышкин обнимал Розу Васильевну, погружался в нее, сдерживая стон, исчезало вдруг прошлое, и охрипшим голосом он выталкивал из себя слова, которые, казалось, давным-давно истлели в глубине сердца. Не любовные то были признания, а глухая мольба, стыдная для пожилого человека, но на Розу Васильевну она действовала, как ожог. Ответно, мощно напрягалось ее естество, и неудержимые потоки слез сопровождали их мучительное совокупление.