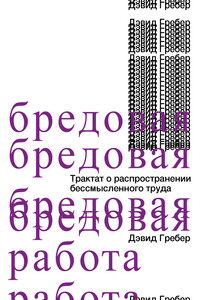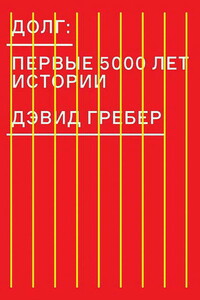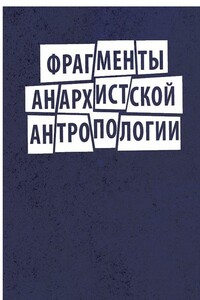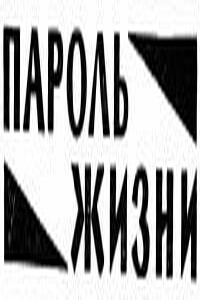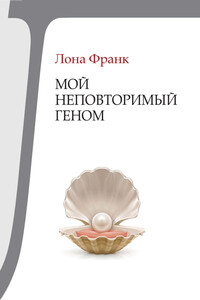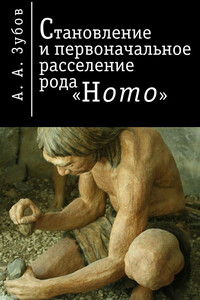Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии - страница 44
Разумеется, вопрос в том, как сделать так, чтобы те, кто переживает этот опыт, не начали немедленно реорганизовываться в каких-то новых рамках (народа, пролетариата, толпы, нации, уммы или чего бы то ни было еще), ведущих к созданию нового набора правил, норм и бюрократических институтов на их основе, соблюдение которых неизбежно будет обеспечиваться новыми разновидностями полиции. На мой взгляд, в этом отношении наблюдается определенный прогресс. Большая заслуга в этом принадлежит феминизму. По меньшей мере с 1970-х годов среди тех, кто стремился к радикальным переменам, можно проследить осознанную работу по смещению акцента с милленаристских мечтаний на более приземленные вопросы о том, как на практике проделывать эти «дыры в ткани реальности» небюрократическими методами, чтобы на протяжении длительного времени сохранялась хотя бы часть силы воображения. Это можно было наблюдать уже на крупных Фестивалях сопротивления, которые в период с 1998 по 2003 год организовывало Глобальное движение за справедливость во время торговых саммитов: там замысловатые детали процесса демократического планирования действий были важнее самих действий; но еще ярче это проявилось в 2011 году, во время митингов «арабской весны», масштабных народных собраний в Греции и Испании и, наконец, мероприятий движения «Захвати Уолл-стрит» в Соединенных Штатах. Это были одновременные прямые действия, практические демонстрации того, как реальная демократия может бросить вызов власти, и эксперименты в области форм, которые способны обретать подлинно небюрократический социальный порядок, основанный на мощи практического воображения.
Таков, на мой взгляд, политический урок. Если сопротивляться последствиям реальности, создаваемой всепроникающим структурным насилием – ведь бюрократические нормы словно растворяются в окружающих нас крупных, массивных объектах, в домах, машинах и прочих больших конкретных структурах, вследствие чего мир, регулируемый этими принципами, кажется естественным и неизбежным, а все прочее лишь беспочвенной фантазией, – то воображению можно будет вернуть силу. Но это требует огромной работы.
Власть делает людей ленивыми. Если наши теоретические рассуждения о структурном насилии что-то и показали, то именно это: хотя те, кто наделен властью и привилегиями, зачастую воспринимают их как тяжелое бремя ответственности, по большей части власть – это все то, о чем допустимо вообще не заботиться и не думать. Бюрократия может демократизировать такую разновидность власти, по крайней мере, до определенной степени, но она не способна от нее избавиться. Власть обретает форму институциональной лени. Революционные изменения пьянят, потому что разбивают оковы, сдерживающие воображение, и позволяют понять, что невозможное перестает быть невозможным, но они еще и означают, что людям придется преодолеть лень, к которой они давно привыкли, и очень долгое время заниматься интерпретативным (творческим) трудом для того, чтобы уничтожить эту реальность.
В последние два десятилетия я потратил немало времени на размышления о том, как социальная теория может содействовать этому процессу. Как я уже подчеркивал, саму по себе социальную теорию допустимо рассматривать как радикальное упрощение, разновидность просчитанного незнания, способ надеть шоры так, чтобы обнаружить модели, которые до этого никто не мог разглядеть.
Я пытался расставить ряд маркеров, которые позволят нам увидеть другое. Поэтому я и начал свой очерк именно так, с описания бумажной волокиты, сопровождавшей болезнь и смерть моей матери. Я хотел привнести социальную теорию в те сферы, которые, как кажется, настроены к ней враждебно. Есть мертвые зоны, которые обволакивают нашу жизнь, области, которые настолько лишены какой-либо интерпретативной глубины, что отталкивают любую попытку придать им ценность или значение. Я обнаружил, что есть пространства, где интерпретативная работа не действует. Неудивительно, что нам не нравится о них говорить. Они отталкивают воображение. Но я также верю в то, что мы обязаны взяться за эти пространства, потому что, если мы этого не сделаем, мы рискуем стать пособниками того самого насилия, которое их создает.