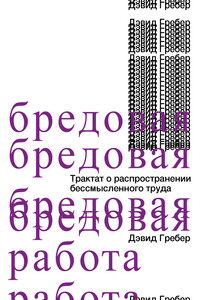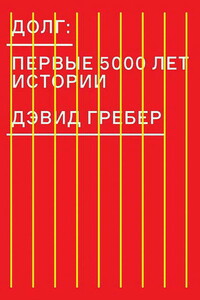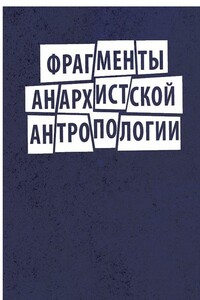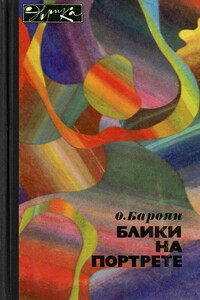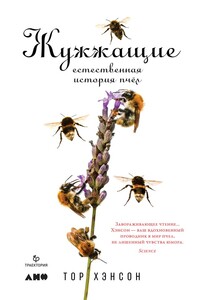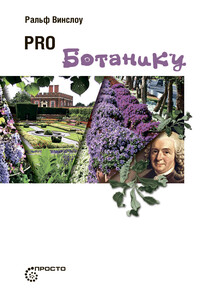Одной из примечательных черт этих революционных потрясений является то, что они возникают словно из ниоткуда, а затем зачастую рассасываются почти так же быстро. Как так получается, что та «общественность», которая за два месяца до начала, скажем, Парижской коммуны или гражданской войны в Испании голосовала за умеренный социально-демократический режим, вдруг оказывается готова рисковать жизнью за тех самых ультрарадикалов, получивших лишь небольшую долю голосов? Или, если вернуться в 1968 год, как так вышло, что та самая «общественность», которая, казалось, поддерживала или, по крайней мере, сочувствовала восстанию студентов и рабочих, практически сразу вернулась на избирательные участки и проголосовала за правое правительство? Стандартные исторические объяснения – что революционеры в действительности не представляли общественность и ее интересы, но публика, возможно, поддалась иррациональному брожению, – разумеется, не годятся. Прежде всего, они исходят из того, что «общественность» – это субъект, имеющий относительно стабильные во времени мнения, интересы и предпочтения. На самом деле то, что мы называем «общественностью», создается посредством специфических институтов, которые допускают одни действия – участие в опросах, просмотр телевидения, голосование, подписание петиций, или составление писем избранным чиновникам, или же участие в публичных слушаниях, – но блокируют другие. Эти рамки действия подразумевают определенные формы речи, мышления, дискуссий, обсуждения. Та «общественность», которая может снисходительно относиться к использованию психоактивных веществ для получения удовольствия, также может регулярно голосовать за то, чтобы такая снисходительность была объявлена вне закона; одна и та же группа граждан способна прийти к совершенно разным решениям по вопросам, касающимся района, где они живут, в зависимости от того, действуют ли они в рамках парламентской системы, системы компьютеризированных референдумов или взаимосвязанных общественных собраний. В действительности из этого факта исходит весь анархистский проект, предполагающий повторное изобретение прямой демократии.
Чтобы проиллюстрировать то, что я имею в виду, я хочу отметить, что в англоговорящих странах группу людей, которую в одном контексте называют «общественностью» (the public), в другом могут обозначить как «рабочую силу» (the workforce). Конечно, «рабочей силой» они становятся тогда, когда вовлечены в различные виды деятельности. «Общественность» не работает – фраза «в большинстве своем американская общественность занята в сфере услуг» никогда не появится в СМИ или исследованиях, и если бы какой-нибудь журналист попытался написать что-нибудь в этом духе, редактор бы это обязательно исправил. Это тем более странно, что общественность должна ходить на работу: именно поэтому, как часто сетуют левые критики, пресса всегда будет говорить о том, как, скажем, забастовка водителей создает помехи общественности, пользующейся транспортом, но им никогда не придет в голову сказать, что бастующие сами являются частью общественности, или что, если им удастся добиться повышения зарплаты, это принесет общественную пользу. И разумеется, «общественность» не выходит на улицы. Ее роль заключается в том, чтобы смотреть общественные спектакли и потреблять общественные услуги. Покупая или используя товары и услуги, производимые частными лицами, та же группа лиц превращается во что-то другое (в «потребителей»), точно так же, как в других ситуациях их называют «нацией», «электоратом» или «населением».
Все эти субъекты – продукты бюрократии и институциональных практик, которые, в свою очередь, задают определенные горизонты возможного. Поэтому, голосуя на парламентских выборах, человек должен чувствовать свою обязанность сделать «реалистичный» выбор; с другой стороны, в условиях восстания все вдруг становится возможным.
«Общественность», «рабочую силу», «электорат», «потребителей» и «население» объединяет то, что их порождают институционализированные рамки действия, бюрократические по сути своей, а значит, ведущие к отчуждению. Голосование в кабинках, телеэкраны, офисные помещения, больницы, ритуалы, их окружающие, – можно сказать, что это и есть аппарат отчуждения. Все это – инструменты, посредством которых человеческое воображение ломается и уничтожается. Мгновения бунта – это время, когда бюрократический аппарат оказывается нейтрализован. Следствием такой нейтрализации всегда становится резкое расширение горизонтов возможного, и ожидать этого можно лишь в том случае, если одной из главных функций, которые выполняет этот аппарат, является максимальное сужение горизонтов (вероятно, именно поэтому, по блестящему замечанию Ребекки Солнит