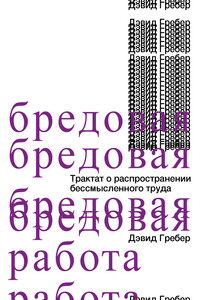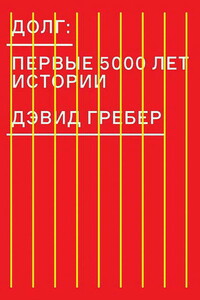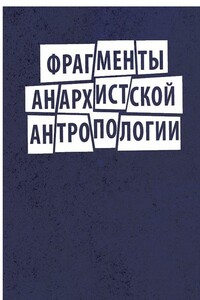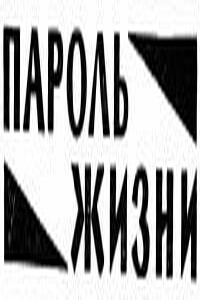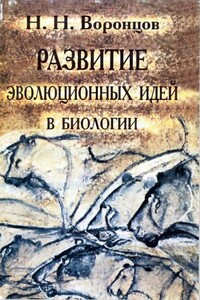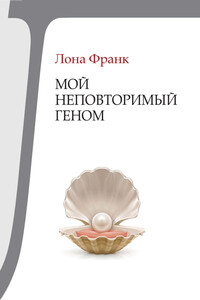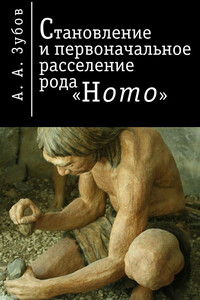Подобная путаница и переплетение различных концепций воображения красной нитью проходят через всю историю левой мысли.
Это противоречие просматривается уже у Маркса. В его подходе к революции есть странный парадокс. Как я уже отмечал, Маркс утверждает, будто мы являемся людьми потому, что не полагаемся на бессознательные инстинкты, как пауки и пчелы, а сначала создаем структуры в нашем воображении и затем воплощаем их в жизнь. Когда паук плетет паутину, он действует инстинктивно. Архитектор сначала чертит план и лишь затем приступает к возведению фундамента своего здания. Это справедливо, настаивает Маркс, для всех форм материального производства, будь то строительство мостов или изготовление лодок. И все же, когда Маркс говорит о социальном творчестве, его ключевым примером (да и вообще единственной разновидностью социального творчества, о которой он говорит) всегда является революция и, как только он заводит о ней речь, он резко меняет регистр. На самом деле он опровергает самого себя. Революционер никогда не должен действовать как архитектор; он не обязан сначала чертить идеальное общество, а затем думать о том, как его воплотить. Это было бы утопизмом. А к утопизму Маркс не испытывал ничего, кроме испепеляющего презрения. Напротив, революция – это фактическая имманентная деятельность пролетариата, который, в конце концов, пожнет ее плоды так, как мы сегодня и представить себе не можем.
Чем обусловлено это расхождение? Самое щадящее объяснение, которое я могу предложить, заключается в том, что Маркс, по крайней мере на интуитивном уровне, понимал, что в сферах материального производства и социальных отношений воображение действует по-разному; кроме того, у Маркса не было подходящей теории, объясняющей, почему это так. Возможно, в середине XIX века, задолго до становления феминизма, он просто не располагал соответствующими интеллектуальными инструментами>74. Исходя из соображений, изложенных в этом очерке, я думаю, что именно в этом все и дело. Выражаясь языком самого Маркса, в обеих областях мы можем говорить об отчуждении. Однако в каждой из них оно действует совершенно по-разному.
Напомню довод, о котором шла речь выше: структурное неравенство всегда создает то, что я назвал «искаженными структурами воображения», то есть разделение между тем классом, который выполняет основную часть работы воображения, и тем, который этой работой не занимается. Тем не менее сфера фабричного производства, интересовавшая Маркса сильнее всего, в этом отношении довольно необычна. Это одна из немногих областей, где господствующий класс выполняет бо́льшую, а не меньшую часть работы воображения.
Творчество и желание – то, что мы часто сводим к политико-экономическим терминам «производство» и «потребление», – ключевые орудия воображения. Структуры неравенства и господства – структурное насилие, если хотите, – искажают воображение. Структурное насилие может создавать ситуации, в которых рядовые сотрудники вынуждены выполнять отупляющую, скучную, механическую работу, а небольшой элите дозволено заниматься творческой деятельностью; в результате у рядовых сотрудников возникает ощущение, что они отчуждены от собственного труда, что их действия принадлежат кому-то другому. Оно также способно создавать социальные ситуации, в которых короли, политики, знаменитости или исполнительные директора надувают щеки и пропускают мимо ушей практически все, что происходит вокруг них, в то время как их жены, слуги, персонал и помощники тратят все свои силы на работу воображения, стремясь удержать их в их собственных фантазиях. Подозреваю, что в большинстве своем ситуации неравенства содержат в себе элементы того и другого.
Субъективный опыт пребывания внутри таких искаженных структур воображения – и вытекающие из него деформирование и разрушение воображения – это и есть то, что мы имеем ввиду, говоря об «отчуждении».
Согласно традиции политической экономии, которой придерживался Маркс, труд в современных обществах делится на две сферы: наемный труд, парадигмой которого всегда являются фабрики, и труд домашний – работа по дому, уход за детьми, – которым в основном занимаются женщины. Первый рассматривается как процесс создания и поддержания физических объектов. Второй, по-видимому, лучше понимать как процесс создания и поддержания людей и социальных отношений. Различие, разумеется, носит несколько карикатурный характер: ни в одном обществе, даже в Манчестере времен Энгельса или в Париже времен Виктора Гюго большинство мужчин не были фабричными рабочими, а большинство женщин не были исключительно домохозяйками. Тем не менее это различие задает рамки тому, как мы рассматриваем эти вопросы сегодня, а также указывает на корень проблемы Маркса. В промышленной сфере те, кто находится наверху, оставляют себе самые творческие задачи (например, они придумывают новые товары и организуют их выпуск), тогда как при возникновении неравенства в сфере социального производства предполагается, что работу воображения и, прежде всего, основной объем «интерпретативной» работы, которая поддерживает течение жизни, будут выполнять те, кто находится внизу