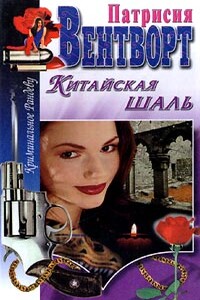Он подождал, пока Розаменд сядет, расположился в большом кресле с подголовником, на которое она указала, и с удовольствием отметил, что глаза у нее, как он и надеялся, не серые или карие, а именно темно-синие. Но, подобно этой комнате, девушка была бледна. Губам недоставало яркости, а щекам — румянца. И она была худенькой — изящно очерченные щеки немного запали. Он заметил, что одежда на ней поношенная: старая твидовая юбка, старая голубая кофта, грубые деревенские башмаки. Башмаки были мокрыми, и на волосах тоже поблескивала влага. Ему как-то сразу стало неловко, что сам он в теплом пальто. Если она выходила на улицу в такой легкой одежде, а она явно выходила…
На ее вопрос: «Вам правда не очень холодно здесь?» — он ответил, неожиданно позабыв о светских манерах:
— Речь скорее о вас. На мне пальто, а вы? Если вы выходили на улицу только в этом…
Она улыбнулась, и в ее улыбке мелькнуло что-то особенное, неуловимое. Чуть позже он понял, что это доброта.
Она сказала:
— Я только прошлась по роще. Она сразу за садом. Очень люблю там гулять.
— В сумерках?
— Да. Это так успокаивает и придает сил…
Он ничего не ответил — что тут сказать После этих слов Лестер и так догадался, что она очень устала. Оттого она и бледна — из-за усталости. Он вдруг начал на себя злиться, чувствуя, что угодил в какую-то историю, причем эта авантюра может оказаться опасной. Приехать сюда было невероятной глупостью. А может… самым мудрым поступком в его жизни.
Розаменд смотрела на него с легким удивлением и сомнением. Здесь, в освещенной комнате, он казался отнюдь не таким крупным. Солидность ему придавало плотное твидовое пальто. Впрочем, Лестер все равно выглядел довольно мощным. Лицо с крупными чертами, очень загорелое, а густые темные волосы коротко подстрижены, будто для того, чтобы немного скрыть своенравие завитков. Немного, но не совсем. Темные глаза, темные брови и в данную минуту помрачневший взгляд. Розаменд не представляла, чем же она могла его обидеть, но явно обидела. А ведь она только сказала, что в комнате холодно… и о том, что гуляла в роще. И зачем было об этом говорить? Роща — ее укрытие, единственное место, где она может подумать о своем и побыть одна. И зачем было рассказывать об этом? Но разве она могла знать, что он рассердится? Все ее мысли тут же отражались на лице: сомнение, робость, смешанная с легким недоумением. Помолчав, она спросила:
— Вы хотели поговорить о Дженни. Вы сказали, — что она вам написала?
Сердитое выражение исчезло. В глазах Лестера заискрился смех, в их уголках появились добродушные морщинки.
— Она прислала нам несколько своих рукописей.
— О-о… — В ее вздохе послышалась тревога.
— Она написала очень четкое и рассудительное письмо.
Она не указала свой возраст, но ведь этого, в сущности, и не требуется в деловом письме. Оно было весьма строго выдержано по стилю: «Мисс Дженни Максвелл свидетельствует свое почтение господам Петертонам и просит принять к рассмотрению прилагаемые рукописи».
Глаза Розаменд широко открылись, губы дрогнули. Она вздохнула:
— Господи! Это очень похоже на стиль деловых писем нашей тети. Вообще-то она нам двоюродная бабушка. Я пишу письма под ее диктовку. Недавно было одно, о сдаче в наем, — последние слова будто списаны с него. Тетя писала своему адвокату и просила принять письмо к рассмотрению.
Лестер, откинув голову, захохотал. Она тотчас испуганно попросила:
— Не смейтесь над Дженни, когда вы с ней будете говорить, хорошо, мистер Лестер. Она очень гордая и очень ранимая, ее рассказы бесконечно много для нее значат.
Она ужасно расстроится, если вы будете над ними смеяться, а ей очень вредно расстраиваться. Понимаете, два года назад она попала в автокатастрофу. Сначала врачи говорили, что она не выживет, а потом — что больше никогда не сможет ходить.
Он заметил, как напряглось ее лицо и увлажнились ресницы. Он было заговорил, но она движением руки остановила его:
— Сама не знаю, зачем я об этом сказала. Сейчас врачи уже так не говорят. Тетя взяла нас к себе, и состояние Дженни заметно улучшилось. Она уже немного может ходить, и появилась надежда, что она совсем выздоровеет, — только надо обеспечить ей покой и режим, ну и следить, чтобы она не огорчалась. Если она будет нервничать, то снова заболеет, поэтому ее никак нельзя расстраивать. А главное, что приносит ей радость — это то, что она пишет. Понимаете, у нее нет иных развлечений. Других детей по соседству нет, а если бы даже и были, она не смогла бы с ними играть. Когда она пишет, то словно бы живет другой жизнью. Придумывает себе друзей и делает все то, чего не может с тех пор, как случилась авария. Вы не представляете, как я благодарна… — Она замолчала и взглянула на него. — Ее щеки пылали, в глазах сверкали слезы. — Не смейтесь над ней, прошу вас, и не разочаровывайте.