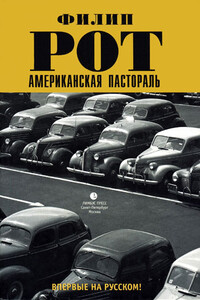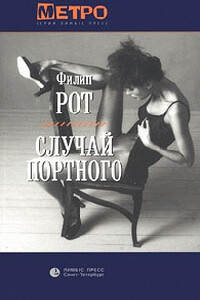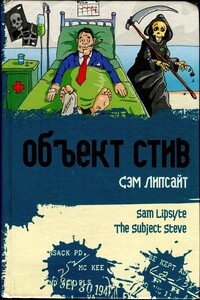– Не сегодня: у меня шея очень болит.
– Так я и знала. Натан, какой же ты гад. И выход у тебя один – продолжать в том же духе. напиши новую книгу. На “Карновском” жизнь не кончается. Нельзя превращать жизнь в кошмар из-за книги, которая имеет оглушительный успех. Нельзя вот так взять и остановиться посреди пути. Поднимись ты с пола, отрасти опять волосы, разогни шею и напиши книгу не про евреев. И тогда евреи перестанут тебя донимать. Ах, какая жалость, что ты не можешь от этого освободиться. Ты так и будешь заводиться и обижаться. Ты всегда будешь воевать с отцом? Да, это звучит как клише – в случае с кем-нибудь другим, но в твоем случае, думаю, так оно и есть. Я смотрю на книжки на твоих полках – Фрейд, Эриксон, Беттельхайм, Райх, – и в них подчеркнуты все фразы об отцах. Однако, когда ты рассказываешь о своем отце мне, он не представляется человеком хоть сколько-нибудь значительным. Возможно, он был самым прекрасным мозольным оператором в Ньюарке, но в остальном в нем нет ничего особо интересного. И тебя, человека такого ума, такой внутренней свободы… это так подкосило? И тебя так подавили эти евреи? Ненавидишь критика Аппеля? И даже не пытаешься перестать его ненавидеть? Он нанес тебе такое жестокое оскорбление? Ну ладно, хрен с ним, с этим дурацким письмом на четырех страницах – иди дай ему по морде. Евреи что, боятся вступать в драку? Мой отец, если бы считал, что его так оскорбили, пошел бы и дал обидчику по морде. Но тебе и на это духу не хватает, и забыть тоже духу не хватает, тебе не хватает духу даже написать колонку в “Нью-Йорк таймс”. Ты только валяешься тут в своих призматических очках и сочиняешь сказочки про медицинскую школу, про то, как ты будешь врачом, и у тебя будет кабинет с портретом жены врача на столе, и ты будешь приходить с работы, и будешь отдыхать, а когда кто-нибудь в самолете потеряет сознание и стюардесса спросит, есть ли тут врач, ты сможешь встать и сказать: я – врач.
– А почему бы и нет? Когда кто-нибудь теряет сознание, никто не спрашивает, есть ли тут писатель.
– Ну вот, опять твои мрачные шуточки. Отправляйся в университет, стань любимчиком профессора, войди в десятку лучших студентов, получи пропуск в библиотеку и на все студенческие мероприятия. В сорок лет. Знаешь, почему я не выйду за тебя замуж? Я бы так и так отказалась, потому что никогда не выйду за слабака.
Всего через несколько дней, одним очень мрачным утром декабря 1973 года, после того как он полночи тщетно пытался записать на магнитофон более вразумительный ответ Милтону Аппелю, Цукерман в ортопедическом воротнике спустился к почтовому ящику – проверить, зачем звонил почтальон. И пожалел, что не надел пальто – хотелось выйти на холод, на улицу, дойти до угла и прыгнуть с крыши отеля “Стэнхоуп”. Он больше не видел смысла оставаться в живых. С часа ночи до четырех утра с узкой пластиной электрогрелки, змеившейся по шее, он провел еще пятнадцать раундов с Аппелем. А теперь настал новый день: и что еще полезного он может сделать в эти нескончаемые часы бодрствования? Разве что куннилингус. Чтобы встала строго над, села строго на. Больше он ни на что не годен. Со всем остальным он напортачил. И что осталось – только это да ненависть к Аппелю. Затравлен матерями и ругает евреев. Да, болезнь сделала свое дело: Цукерман стал Карновским. Журналисты с самого начала это знали.
Вот только если прыгать, череп расколется. Малоприятное зрелище. А если он просто повредит позвоночник, приземлившись на матерчатый навес у входа в отель, то будет до конца жизни прикован к постели, и эта участь в сотни тысяч раз горше той, которая так тяготила его сейчас. С другой стороны, неудавшееся самоубийство если не сделает его полным калекой, то даст ему новую тему – тему получше, чем успех. Но что, если боль исчезнет на полпути вниз, уйдет туда, откуда пришла, выскочит из тела, пока он будет лететь с крыши – тогда что? Что, если в каждой яркой детали он видит новую книгу, новое начало? Вдруг это случается именно на полпути вниз? Что, если пойти в “Стэнхоуп” просто ради эксперимента. Боль либо пройдет до того, как я добреду до угла, либо когда войду в отель и буду ждать лифта. Либо пройдет перед тем, как я войду в лифт, либо я поднимусь на верхний этаж и пройду через пожарный выход на крышу. Подойду к парапету, посмотрю с высоты шестнадцати этажей на машины внизу, и тогда боль поймет, что я не шучу, что шестнадцать этажей – не шутка, что через полтора года