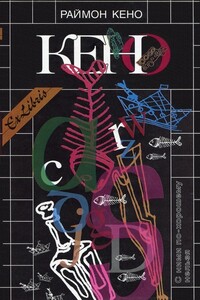I
Сажусь в автобус.
— До ворот Шамперре едете?
— Что, читать не умеете?
— Простите.
Он теребит мои талончики на своем животе.
— Вот вам.
— Спасибо.
Осматриваюсь.
— Послушайте-ка, вы.
Вокруг его шляпы что-то вроде шнурка.
— Поосторожней не можете?
У него очень длинная шея.
— Да что же это такое, послушайте-ка, вы!
Вот он бежит на свободное место.
— Ну и ну.
Это уже я сам себе сказал.
II
Сажусь в автобус.
— До площади Контрэскарп едете?
— Что, читать не умеете?
— Простите.
Закрутилась его шарманка, и под тихий недовольный мотив он вернул мне мои талончики.
— Вот вам.
— Спасибо.
Проезжаем мимо вокзала Сен-Лазар.
— Смотри-ка, тип, которого мы только что видели.
Прислушиваюсь.
— Пришил бы ты еще одну пуговицу к плащу.
Он показывает ему где.
— У твоего плаща слишком большой вырез.
Да, действительно.
— Ну и ну.
Это уже я сам себе сказал.
После чрезмерного ожидания автобус наконец вывернул из-за угла и остановился у тротуара. Несколько человек вышло, несколько других вошло; среди последних был и я. Втиснулись на площадку, кондуктор яростно дернул за шнур, и транспортное средство отъехало. Отрывая из книжечки нужное количество талонов, которые должен прокомпостировать человек с ящиком на животе, я принялся рассматривать соседних пассажиров. Одни соседи. Ни одной женщины. А раз так, то какой интерес рассматривать? Вскоре обнаружил то, что можно было бы назвать сливками окружающего меня грязноватого общества: парень лет двадцати с маленькой головой на длинной шее, большой шляпой на маленькой голове и маленькой кокетливой плетеной тесемкой вокруг большой шляпы.
Какой жалкий тип, подумал я.
Но тип был не просто жалким, а еще и злобным. Посмел возмущаться и обвинять какого-то буржуа в том, что тот утюжит ему ноги при каждом перемещении входящих и выходящих пассажиров. Тот строго на него посмотрел, пытаясь в готовом репертуаре, проносимом через различные жизненные ситуации, найти суровую реплику, но, видимо, в тот день он запутался в своей картотеке. Что касается молодого человека, то, испугавшись возможной затрещины, он воспользовался внезапной пустотой сидячего места, бросился к нему и уселся.
Я вышел раньше, чем он, и не смог продолжать наблюдение за его поведением. Я уже пророчил ему забвение, когда через два часа из окна автобуса увидел его на тротуаре Римской площади, такого же жалкого, как и раньше.
Он ходил туда-сюда вместе с приятелем, должно быть его наставником по части элегантности, который с щегольским педантизмом советовал ему уменьшить разрез плаща, пришив к нему дополнительную пуговицу.
Какой жалкий тип, подумал я.
Затем мы, я и автобус, поехали дальше.
Младой наглец стоял тут в шляпе со шнурком,
С цыплячьей шеею, такой меланхоличной,
Готовясь совершить свой ритуал привычный —
В автобус влезть, хоть он в сей час набит битком.
Автобус «S» пришел, и вот юнец тотчас
Проник в него, найдя местечко на площадке,
Где неимущий люд теснится в беспорядке,
Меж тем как богачи сидели развалясь.
Но вышеназванный наш молодой жираф,
От давки в той толпе чувствительно страдая,
Усесться смог, пред тем соседа обругав.
Когда ж он вышел, друг хотел ему внушить,
Его пальто весьма пристрастно обсуждая,
Что пуговицу бы неплохо перешить.
В этом полуденном автобусе S, не считая обычного запаха, а-а, бея, выгод, ежей, заик, кайл лемм, мен нео опер, сетей, уф! фейхоа, цэ-у, чая, шей, щей, эй, ню, присутствовала некая пахучесть длинной юношеской шеи, некое пованивание плетеной тесьмы, некая вонища злобы, некий трусливый и озадаченный шмон, настолько резкий, что, когда спустя два часа я проезжал мимо вокзала Сен-Лазар, я его вновь почувствовал и идентифицировал в косметически смоделированных и сфабрикованных ароматах, исходящих от неудачно пришитой пуговицы.
У этого автобуса был определенный вкус. Даже странно, но это, несомненно, так. У каждого автобуса свой вкус. И не только на словах, так есть на самом деле. Стоит только попробовать. Итак, у этого автобуса — скажу прямо, маршрута S — был легкий вкус жареного арахиса; больше ничего говорить не буду. Площадка имела свой специфический привкус, привкус арахиса не только жаренного, но еще и раздавленного. В метре шестидесяти от вибрирующей плоскости любой гурман — но таких там не нашлось — мог бы, лизнув языком, ощутить нечто кисловато-солоноватое, а именно мужскую шею лет тридцати. На двадцать сантиметров выше искушенному нёбу представилась бы редкая возможность дегустировать горькое послевкусье плетеного шнурка. Затем мы отведали цикория с корицей укора, риса с сыром ссоры, саке (осадка на дне) досады, перцовки ярости и грога горечи.