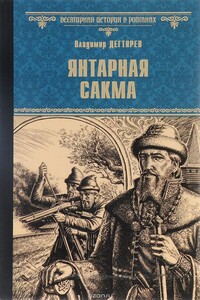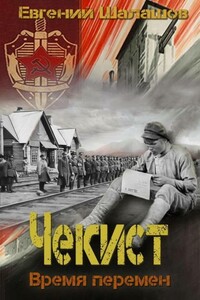— Не забывай, сучонок, что я тебя поймал, а не ты меня. И жизнью твоей я сейчас распоряжаюсь, а не ты моей. Ладно, парни, — поднялся Иван. — Надоело мне с вами лясы точить.
— Слышь, Николаев, ты же от нас никуда не денешься. Давай сдайся добровольно, на суде зачтется. Рябушкин распорядился — арестовывать всех, кто с тобой хоть какое-то дело имел. Даже если тебя чаем поили. Задерживать станут по подозрению в соучастии в грабежах и убийствах, в тюрьме будем мариновать, пока ты не сдашься.
— Знаю, — скривил губы Иван. — Мать и отца вы уже в заложники взяли, как в Гражданскую делали. Не слышали? В Тамбовской губернии крестьяне в леса ушли, оттуда с красными воевали, а Тухачевский приказал ихние семьи в заложники брать. Мол, если не явятся бандиты — расстрел на месте. А являлись "зеленые" мать с отцом спасать, нате, мол, меня возьмите, родных отпустите — так что случалось? И отца с матерью расстреливали, и сына следом. Ты думаешь, я к твоему Рябушкину добровольно явлюсь, праздник ему устрою? Ага, ищи дурака. Михаил Семенович в заложники целые деревни брал, а потом расстреливал. На мне столько крови нет, сколько на нем.
— Никто твоих родственников расстреливать не собирается — теперь не двадцатый год. А степень вины будет решать суд. Почему не донесли, почему вещи краденые брали, а? А кто на воле остался, бояться станут. У тебя, Николаев, земля под ногами будет гореть, — пообещал Баринов. — Тебя теперь никто на ночлег не пустит. Да что там на ночлег — воды напиться не вынесут. Да тебя сами мужики шлепнут!
— Осмелел ты что-то, — покачал головой Иван, а потом отвесил инспектору звонкую пощечину, от которой у парня перехватило дыхание.
— Связанного бить — последнее дело, — с презрением сказал второй.
— А ты, когда мужиков допрашиваешь, по головке их гладишь? — поинтересовался Иван. — Щас скажешь — развяжи меня, я тебе козью морду сделаю?
— А ты развяжи, — буркнул инспектор. — Тогда и посмотрим.
— А чё смотреть-то? Вас против меня двое было, справились? Кишка у тебя тонка, дорогой товарищ. Если б вы порядочными людьми были, пальцем бы не тронул. Ловили бы меня честь по чести, а вы только и можете, что простых людей за решетку прятать. Самим-то меня взять слабо было? Вам бы только слепых куриц ловить.
— А нам, Николаев, плевать, что ты о нас думаешь. Ты бандит и убийца. И как мы тебя прищучим — без разницы. Честных мужиков никто пальцем не тронет, а только тех, кто твоей банде помогал. Честные люди нам спасибо скажут. Подельники твои уже все сидят, тебе недолго осталось.
— Передумал я, парни, — сказал Иван. — Хотел вас в живых оставить, теперь не стану. Я же бандит и убийца, терять мне нечего. А мусора обмануть — святое дело!
Николаев вытащил револьвер, демонстративно повернул барабан, взвел курок.
— Молитесь.
Оба инспектора притихли. Тот, что постарше, принялся шевелить губами — не то молитву читал, не то "Капитал" вспоминал. Но ни тот, ни другой пощады не просили, не умоляли.
Иван прислушался. А парень-тο не молился, а пел. И не "Вихри враждебные", не "Интернационал", а ту саму, где русская бригада. Припев.
— Карпатские вершины
Далекий край орлов.
Глубокие долины,
Могилы удальцов.
— Песню откуда знаешь? — удивился Иван. Подойдя поближе, поднес лампу к лицу парня, рассмотрел повнимательнее — лет двадцать, от силы — двадцать три. — Не, не мог ты в четырнадцатом в Галиции быть, молод еще.
— Я ее в шестнадцатом выучил, под Бродами.
— Че ты под Бродами-то делал? Небось с обозом был…
— Да я в Брусиловском прорыве участвовал, я под Бродами ранен был! — вскинулся парень. — Я в семнадцатом офицерские погоны получил, понял?
— Из "вольноперов", что ли? Ясно, — вздохнул Николаев. Вольноопределяющийся, потом "химическим" офицером стал. — Ну, что сказать… Счастлив твой бог парень. Оружие и удостоверение я вам оставлю, а уж патроны ваши мне самому сгодятся, не взыщите.
Иван уже уходил из собственного дома, когда бывший "вольнопер", а ныне инспектор утро бросил ему в спину:
— Николаев, а я тебе одно обещаю как фронтовик фронтовику — я тебя в суд не поведу, сам шлепну!
ГАЗЕТА "ПРАВДА"