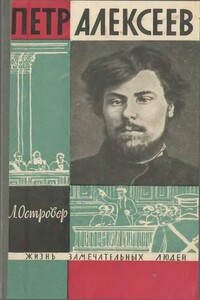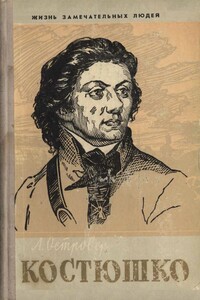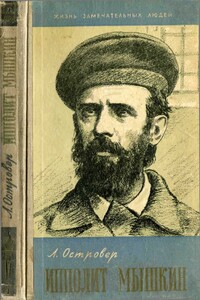Пришел в Тегеран. Опять жизнь маслобойщика, стригача, носильщика.
Однажды, когда я принес в богатый дом покупку из магазина, ко мне на кухню вышел пожилой человек. Посмотрел на меня пытливыми глазами и не спросил, а сказал уверенно:
«Ты русский».
«Да, господин, русский».
«Знаешь русскую литературу?»
«Неплохо».
Он увел меня к себе в беседку, угостил душистым кофеем.
«Давно у нас?»
«Около года».
«А раньше ты наш язык знал?»
«Ни слова».
Мои ли краткие ответы ему понравились или легкость, с какой я поддерживал беседу, — он вдруг спросил:
«Сколько ты зарабатываешь в месяц?»
«Туман, иногда и больше».
«Переходи ко мне, я буду платить тебе три тумана».
«За какую работу?»
«Учи меня русскому языку».
В этот же день я переехал. Мой хозяин оказался ученым, настоящим ученым: он учился у меня и учил меня.
После трех с лишним лет он знал русский язык и русскую литературу не хуже меня, а я за это время основательно изучил арабский язык и арабскую литературу.
И ему и мне стало уже неинтересно наше содружество, и мы расстались. Я поехал в Индию — в кармане было достаточно денег, чтобы года полтора-два учиться, не думая о хлебе насущном.
Новая жизнь, новый язык. Индийский профессор, которому я был отрекомендован моим тегеранским учителем-учеником, принял меня сердечно. Я сначала учился, затем стал заниматься литературным трудом. Исследование «Золотой век арабской литературы» принесло мне должность преподавателя лагорской коллегии в Пенджабе.
Еще в Тегеране я изучал греческий язык. Как-то, просматривая «Бюллетень индийского археологического общества», я натолкнулся на пять снимков с греческой рукописи. Из пояснения, предпосланного снимкам, я узнал, что фотографии воспроизводят заключительную главу трактата Аристотеля и что оригинал этой рукописи утерян.
Я заинтересовался пропавшим трактатом и узнал всю его романтическую историю — от момента кражи в Зимнем дворне до беседы в берлинской конторе антиквара Пфанера. Заключительную главу из трактата Аристотеля я перевел на арабский язык и напечатал свой перевод в том же «Бюллетене». Однако перевод и даже моя пространная, я бы сказал, не лишенная интереса вступительная статья не нашли тогда отклика ни в научном мире, ни среди коллекционеров: время было военное.
Жил я скромно, незаметно; преподавал, печатал свои труды под именем «Муса аль Тегерани».
Однако английская разведка пронюхала, что я не настоящий Муса, и стала сильно мне докучать.
Возможно, я сам накликал на себя эту беду: таков уж у меня характер. Вместо того чтобы удовлетвориться чтением лекций, я еще беседовал со своими учениками о Марксе, о его учении.
Тучи над моей головой сгущались все больше.
Вдруг — Февральская революция в России. Я бросил все и — домой.
Приехал я в Петроград в те дни, когда нашей партии пришлось работать в тяжелых условиях подполья и Временное правительство пустило всех своих шпиков по следу Ленина.
На митинге в Лесном я услышал фамилию Подвойский. С одним Подвойским, Николаем Ильичом, я подружился на каком-то сибирском этапе. Подошел к этому Подвойскому, спросил, не Николай ли Ильич он. «Да», — прозвучал сухой ответ. Я назвал себя, напомнил ему этап.
Подвойский отнесся ко мне с подозрением. «Где ты был? Что делал?» — посыпались вопросы. Я ему рассказал свою одиссею, и мой рассказ, видимо, показался Подвойскому чересчур экзотичным, чтобы поверить в него. Он предложил мне привести в порядок личные дела и как-нибудь зайти к нему.
Когда говорят «как-нибудь», следует понимать так, что беды особой не будет, если ты не зайдешь. Я так и понял. Сначала устроил личные дела, то есть оформил свое членство в партии, стал выполнять партийные поручения, а потом отправился в Азиатский музей Академии наук, чтобы устроиться там на работу. Почему именно в Академию наук? Во-первых, по моей специальности, а во-вторых, в то беспокойное время работа в стенах Академии сулила большие удобства для подпольщика-большевика.
В Музее принял меня ученый секретарь: старик в черной шелковой ермолке. Он сидел в глубоком кресле. Перед ним лежали небольшая книжка и увеличительное стекло. Несколько минут смотрел он на меня взглядом человека, который возмущен смелостью посетителя, оторвавшего его от серьезного дела. Наконец спросил: