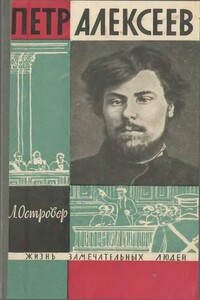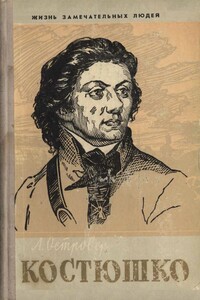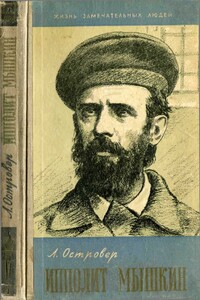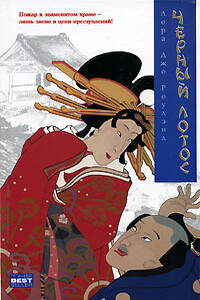Сидя рядом с Тересой, глядя в ее печальные глаза, он говорил без умолку.
Тереса не прерывала его.
Обычно Олсуфьев деликатно спрашивал, что она делала, о чем думала, а сегодня он говорил о небе Италии, о пиниях и цикадах, и говорил отрывисто, неожиданно обрывая себя на полуслове, и Тереса чувствовала, что Олсуфьев думает о другом.
Это почувствовала и квартирная хозяйка.
— Поехали бы лучше домой, — мягко проговорила она. — Отоспались бы после этих караулов.
— Вы правы, Марфа Кондратьевна. Ночь не спал.
— Я вас поняла, — тихо промолвила Тереса по-итальянски. — Произошло что-то и, чувствую, важное. Не говорите, что именно, я вам верю, всем сердцем верю. — И по-русски добавила. — Поезжать домой.
Однако Олсуфьев поехал не к себе, а снова к Кушелеву-Безбородко. Тот оказался на этот раз дома.
— Новая беда? — спросил он с тревогой.
Театральным жестом Олсуфьев показал на книжный шкаф.
— Вот где мое спасение!
— Школьничаешь, Ника, а я, прочитав твою записку, подумал черт знает что. Любишь ты драматические положения. Но Чайльд-Гарольд из тебя не получится.
— Гриша! Ничего ты ровным счетом не понял! Положение в самом деле драматическое, но совсем не в духе Чайльд-Гарольда. Передо мной стоит гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» Ответ на этот вопрос зависит от тебя одного.
— Что-то слишком туманно…
— Тогда выслушай.
И он рассказал, что произошло вчера на дежурстве.
— Гриша! — закончил Олсуфьев свое повествование. — Мое счастье в твоих руках. Дашь рукопись — Тереса спасена. Откажешь — Тереса погибнет.
— Ты с ума сошел! Разве я могу распоряжаться рукописью из опечатанного шкафа?!
— Я все продумал. За снятие печати полагается штраф — я его внесу. А рукопись получу обратно!
— Да кто тебе вернет ее?
— Государь! Дубельт отвезет ему рукопись в тот же день, как я ему передам. Государь принимает Дубельта утром и вечером. Если я передам рукопись Дубельту днем, он отвезет ее государю вечером между семью и восемью. Это будет в день моего дежурства. В восемь государь едет на прогулку и проходит мимо Синего зала. Я ожидаю его в коридоре, бросаюсь перед ним на колени и рассказываю историю рукописи. Ты знаешь Николая Павловича — он любит, когда перед ним душу свою раскрывают. К тому же я не ставлю его в трудное положение: он ничего французу не обещал. А тут перед ним возможность проявить великодушие. И он проявит его!
— А если нет?
— Не может государь жертвовать честью своего офицера для того только, чтобы сделать приятное чужеземцу-французу. Не может! Он поругает меня, дернет за ухо; все будет, знаю, но рукопись он вернет. Наконец, Гриша, клянусь тебе: я, Николай Олсуфьев, верну тебе рукопись! Хочешь, напишу клятву в виде расписки? — закончил он торжественно.
Безбородко отошел к окну, молча постоял там несколько минут. Ни судьба шарманщика, ни горе его дочери, ни отчаяние друга не интересовали его. Но, думал он, если откажешь Олсуфьеву, этот теленок с отчаяния может черт знает что выкинуть — еще к Елене поедет и такое наговорит…
— Ника, — начал он, повернувшись, — ты знаешь, что для тебя я готов сделать все. И сделаю! Но, прошу тебя, повремени несколько дней.
— Сколько?
— Сегодня у нас двадцать второе ноября. Отправляйся к Дубельту, скажи ему, что рукопись доставишь тридцатого.
— Почему? Почему не сегодня? Гриша! Понимаешь ли ты, что значат восемь дней для Тересы? Море слез, восемь бессонных ночей! Зачем эта проволочка? Ведь ты хочешь помочь мне, Гриша?!
— Хочу.
— Тогда дай рукопись сейчас. Прошу тебя!
Безбородко понял: отказать — значит поссориться, а этого он не мог позволить себе накануне помолвки с кузиной Олсуфьева.
— Бери! — сказал он решительно.
Олсуфьев заключил товарища в объятия; у него не хватило слов, чтобы выразить благодарность.
Безбородко подошел к шкафу и взялся за дощечку, на которую были наложены сургучные печати.
— Нет! — воскликнул Олсуфьев. — Ты не прикасайся. Я сам должен это сделать. — И закончил просительно: — Григорий, выйди из комнаты. Не надо тебе при этом присутствовать. Тебе будет неприятно.
Кушелев-Безбородко подчинился.
Когда дверь за ним закрылась, Олсуфьев написал записку: