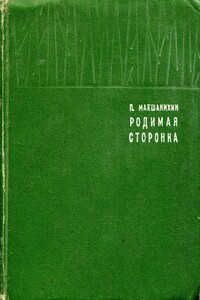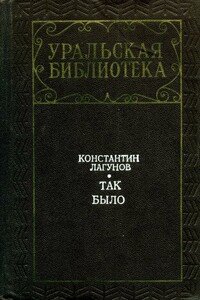— Рубль фунт стоит, — тоскливо напоминает мужик.
— И стоит! И стоит! И как еще стоит! — поближе к себе подвигает ество.
— Тут ведь, батюшка, всех восемь фунтов, — следит хичным взглядом за ложкой мужик.
— Хватит, хватит! Достаточно… Более не подкладывай, — отстраняет рукой его поп.
— Господь… восемью хлебами… тысячи напитал! А вы…
— Хорошо, что напомнил! Без хлеба, действительно, что за еда? Так калачиков!
Уминаю я эту «икру» и вижу невзрачну собачку в переднем ряду — на полу. Прошмыгнула в таком многолюдстве промежду обувки у публики и так-то умильно глазами меня проницает. Втянет носиком каплю воздуху, и аж судороги у нее на нюхальце явятся, ажно дрожь обозначится.
«Кашки жаждует, — оценяю я. — Вот кто истинно, точно ведает, какова «икра» мне поставлена, — себе думаю. — Пятьсот запахов, говорят, различает песья ихняя аппаратура в заноздриях!»
Чула, чула собачушка и, видать, должно быть, донюхала и опознала в моем парике гулебный единоплеменной дух. Ей, оказывается, шанцонетке, не каша блазнила, а кавалером надыхивалось. Пахнет, а где и откудова, до сознания никак не доходит. И случилось на этой почве с ней буйное помешательство. Эко как взревновала, взрыдала, отчаялась тонким пронзительным голосом, аж из шкурки своей выдирается — лает. Я ей — «Цыц! Цыц!» — шепотком заклинаю, внушением внушаю — никакого воздействия. Пришлось занавес перекрыть и собачушку ту с применением физичецкой силы из зала тащить-волочить.
Вот была самодеятельность!
А какой резонанц?
Бабка Марфа, покойница, после спектакля повдоль мне хребтины со шкуросъемом, с протягом два раза свою кочергу разместила. Я, калека, дышать не могу с перегрузу, с недоваренной приторной каши, крупы начали в соках-кислотах взбухать, а она, старушня, в суеверном припадке в затылок, в талантливу шишку железом мне метится.
— Обратят тебя черти во пса богомерзкого! — с фанатизьмом и злобностью реплики мне подает.
Досталось от бабки, а наутро зовут в сельсовет.
— Ты поблагостней бы чуток! Вот к чему с кобелем на башке выходил? Или кто подсказал?..
— Дед-суседко шепнул, — скалиг зубы Афонька. — Сослуживцы мы с ним… Он — домовой, я — избач. Спектакль же под страхом угрозы был!
— Ты же чувствия верующих в нуль не ставишь! Нешто можно по-беспощадному? Ведь и поп — гражданин!
— А-а-а… — отмахнется Афоня. — Их сам Пушкин в прошедшем девятнадцатом веке еще не щадил! В открытую намекал:
Попадья Балдой не нахвалится.
Поповна о Балде лишь печалится.
Попенок зовет его тятей…
— Вразумляет вас? Тя-я-ятей!.. — палец глубокомысленно под потолок вознесет. — Далее пронаблюдаем:
Балда нянчится с дитятей.
Яичко испечет, да сам же и облупит…
— Хе! Стал бы он чужой крови яичко облупливать?!. Он хоть и Балда, а небось не совсем обалдел… Свой дитя и балде мил… Ну… Всем по кисточке! — ладонькой взмахнет. — Побежал Емельяна читать. Про библейских перепелов…
Председатель исполкома — заядлый охотник:
— Погодь-ка… А чего там про перепелов?
— Стародавнее дело! В Моисеев исход из Египта случилось. Возроптали ведомые им иудеи, что-де мясо давно не едали. Токо манна да манна небесная. И наслал господь тогда на них перепелов. Подлетают они и валятся кверх брюшком, разинувши клюв. Иудеи неделю их жарят, другую и месяц уже жигитуют-харчуются. Писание гласит, что впоследствии из ноздрей у них мясо полезло. До тошнотиков, значит…
Вот так завсегда! Отбоярится Пушкиным или Бедным Демьяном, перепелок библейских мобилизует, а последнее слово оставит опять за собой.
Приключенчецкой жил мужичок!..
Двое их на деревне было гармонистов — Васька Лахтин и он.
Ты играй, играй, тальяночка,
Играть бы тебе век,
Не тальянка завлекает,
Завлекает человек.
Васька Лахтин-то квашня был. Стоит раз-другой по ладам пройтись, разыскать мотив, ухом взнеженный, — туп что надолба малый делается. Взор бессмысленный, губа свесится, истукан сидит.
Играл славно, а морда — шаньга.
Шура, Шура белая,
За Ермилкой бегала:
За Ермилкой-то ништо!
За Егоркой-то пошто?
Не человек спел, а бочонок порожний отгулкнулся. То ль Афонюшка, самородушек!
Склонит правый ус на тальянкин стан, укуснет ему кончик, вцепит дрогнувший безымянный палец в звонку пуговку, в белый гармошкин сосок, и выбрызнется из него хмель-хмелинушка, захмеленное «соловьиное молочко».