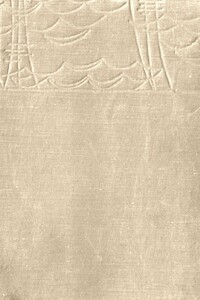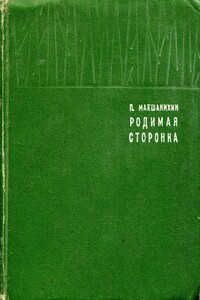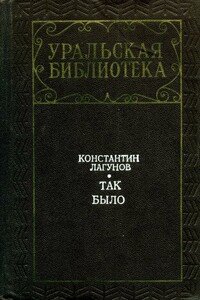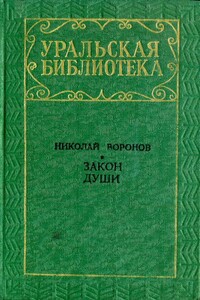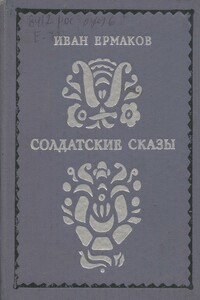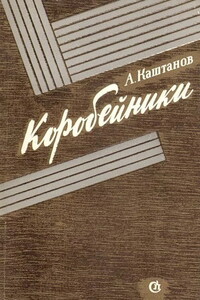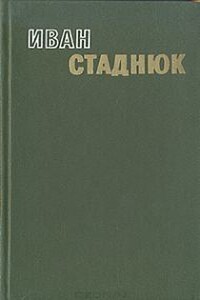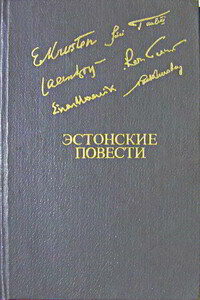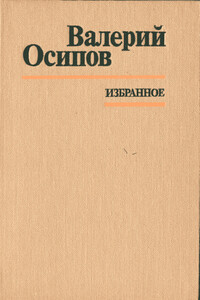Распространенное суждение: кто хорошо говорит, плохо пишет — не подходило к Ермакову — в произведениях его всегда сохраняется терпкость и пленительность многокрасочной устной речи, ощущается редкостное совпадение особенностей дарования и формы выражения ее.
Какое же удовольствие в наш век усредненного, слишком грамотного литературного языка прочитать хотя бы такие строки о солдате Афонюшке из сказа «Память»:
«Младочертом глядит с фотографии. Левый ус, как всегда, в развихренье, в распыл мелки бесы раздернули, правый, бдительный, тоже проказу и шустрость таит для предбудущей шкоды…
Приключенчецкой жил мужичок.
Звонкопевный, в журавлиную силушку, голос имел, некорыстенький ростик, зовомый «попу до пупка», востропятую поспешь в ногах и проворный сметливый ум. Грамотешка церковноприходская, а на выдумку, вымысел!.. Упомянутый поп его иезуитом за глаза называл. Потому как Афоня со сцены персону сию не отпускал…»
Подчас кажется: Ермакову не хватает обычных слов, и он «ткет» какие-то свои узоры, поворачивая слово и так, и эдак, придавая ему то ласковый, то уменьшительный, то насмешливый оттенок. Нет, наверное, необходимости множить такие примеры, но очень хочется привести еще отрывок из рассказа колхозного сторожа («Зорька на яблочке»).
«Присядет он рядышком, плащишко свой на коленях разместит и — ровно полянку в карманах да в башлыке прихоронил: струечку мяты нос причует, земляничка заистомляется, луговая купавка померещится, тмин-самосейка — полем пахнёт… Неподмесным полевым зазывистым таким надыхом пастухи одни только пропитываются. По соковой ягоде ходят, на медогон-траве дремлют, со всякого цвет-растенья пахучие дымки, вихорки их окуривают, из-под радуги берестяным ковшичком пьют — удивительно ли? Весь витамин земли ихний!»
Густо заправленный просторечиями, сибирскими озорными словечками, природным юмором — язык Ермакова иногда и нарушал привычные «нормы». Встречались у него на первых порах перехлесты, излишества и перегруженность образностью, но эти издержки шли не от изыска или нарочитости, а от естества поистине народного таланта.
Не из словаря Даля, не из памятного непременного писательского блокнотика вливалась в его язык стихия местного присловья, поговорок, пословиц, поскладушек — они его коренные, впитанные с детства, с опытом жизни.
Родился Иван Ермаков 27 января 1924 года на юге Тюменской области в деревне Михайловке Казанского района, богаты эти места и светлыми березовыми лесами (что будут шуметь во многих его сказах), и тучными нивами, и сенокосными угодьями, и хлебосольными песенными праздниками.
В большой крестьянской семье Михаила Тихоновича и Анны Михайловны росло двенадцать детей. Климат дома был здоровый: работящий и безунывный. Многое взял Иван и от неутомимой в работе бабушки Пелагеи Васильевны, что пекла внукам «превкусных хлебных жаворонков и лебеденков», и от дедов Михаила и Тихона — «с бусорью чуток», и от веселого нрава отца, но больше всего от матери Анны Михайловны — человека неистребимой душевной силы. До преклонных лет, живя уже в Тюмени, сохранила она свой бесценный речевой дар, удивляя и радуя всех, кто бывал в доме писателя Ермакова.
В деревне трудовые навыки воспитывали сызмала. «Пятилетним вывез меня отец на пашню, — вспоминал Иван Михайлович. — Впрочем, кто из моих деревенских сверстников не побывал в таком возрасте на пашне… Неискушенные наши предки вряд ли подозревали, что именно этим вешним весенним деньком открывают синеглазые сопливые колумбы первозданную красоту луговых и березовых америк, что именно в этот первый выезд в широкое, как мир, поле ребячья ладонька, впервые после материнской груди, приласкается ко второй, теперь уже вечной кормилице-земле, что именно вот здесь, в борозде, разминая пахучий комочек весенней земли, обретает маленький россиянин шестое чувство — чувство Родины».
Многое закладывает в человеке детство, особенно в художнике, и счастлив он, коли соединятся в чистых истоках его горячая любовь к родной земле и радость труда во имя ее.
Рос Иван Ермаков в суровое и интересное время, когда под напором нового трудно переворачивался старый вековой уклад, когда еще свежа была в семьях односельчан память о кровавых расправах Колчака, зверствах кулацкого мятежа, о героизме первых коммунаров. Но уже гудели на колхозных полях машины, девушки заводили вечерами любимую, песню того времени: «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати», а в переполненной читальне деревенские активисты ставили антирелигиозные пьесы с частушками собственного сочинения.