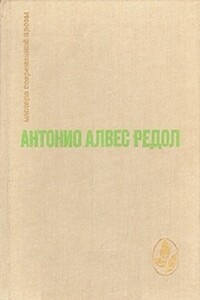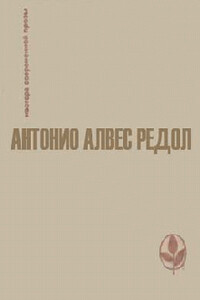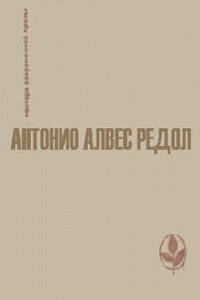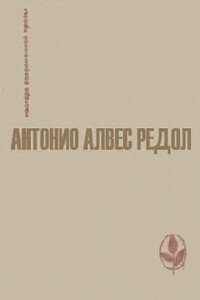Я подошел к нему, и он, не глядя, пригласил меня сесть рядом с ним, сделать ему такое одолжение. Я был в нерешительности, но он схватил меня за руку, и мне пришлось уступить его желанию. Он сидел с поникшей головой, стараясь унять дрожь в руках, потом вдруг заломил их, словно память его прошило воспоминание о всех смертях, лежавших на его совести с того самого дня, когда он свернул голову голубке.
— Здорово они меня закопали, а? — заговорил он надрывным шепотом. — Здорово, что и говорить. Ни один из тех, за кого капитан Мишле мне ручался, и носа не показал. Да и он-то сам мог бы, по крайней мере, хоть после суда объявиться. Куда там! Никому до меня и дела нет. Ну, ничего, теперь-то я уж ничего не забуду. Нипочем не забуду. Ах, кабы мне тогда угадать, что со мной приключится, тогда, когда он твердил мне «не забудь!».
Мне захотелось как-то смягчить эту невыносимую боль одиночества, раздиравшую ему сердце, я даже потянулся было погладить его по плечу, но раненая рука меня не слушалась. Видимо, он воспринял это как колебание с моей стороны, потому что с силой втянул в себя воздух, чтобы подавить тяжелый вздох отчаяния, и вонзил в меня тоскующий взгляд.
— А теперь? Что я теперь скажу моей Нене?
Его слова застали меня врасплох. Я понял, что должен, непременно должен ответить ему на этот вопрос: да, он растленный, жестокий убийца, но в тоне его голоса, жалобном и глубоком, сквозит подлинно человеческое страдание.
Я заговорил, с трудом подыскивая слова. Я не успевал их произнести, как его полные тревоги глаза уже угадывали их.
— Ты сам знаешь, Сидро, что ты должен сказать Нене. Кому же знать, как не тебе?
Мне было с ним тяжело и неловко, хотелось встать и уйти, но тоска, глядевшая его глазами, не отпускала меня.
— Она ведь молоденькая, твоя Нена?
— Я вам показывал, сеньор, ее карточку. Помните? Ей двадцать четыре.
— Ну что ж, двадцать четыре — это не много. Девчонка еще. Я думаю, Сидро, что…
Его глаза округлились от напряженного ожидания. Казалось, он хотел вырвать у меня еще не произнесенные мной слова.
— Да, я думаю, что ты должен все ей рассказать. Всю правду. Люди, которых мы любим, заслуживают того, чтоб им всегда говорили правду. И если ты найдешь в себе силы… Я верю, что ты сильный… Человеческая храбрость…
Он прервал меня упавшим голосом:
— Какой из меня теперь храбрец. Был, да весь вышел.
— Я знаю, что ты сможешь, — настаивал я, словно надеясь придать ему силы своим упорством. — Ты должен ей сказать, что ей лучше забыть тебя. Пусть она считает себя свободной.
Мои слова были для него пыткой. Я видел это. Лицо его исказилось от боли, по щекам текли слезы.
Он опустил голову, потом кивнул в знак согласия и проговорил чуть слышно:
— Да, ничего другого мне не остается.
Он еле сдерживал рыдания. Я положил руку ему на плечо, он грубо схватил ее и сразу же пожал с нежностью. Потом снова поднял на меня глаза и вдруг закричал, — он не мог больше удерживать в себе этот крик:
— Но как же я смогу жить здесь без ее писем? Скажите мне — как?
(Я невольно спросил себя: «А те, другие, как они повели бы себя на его месте? Они, толкнувшие его на этот путь… О чем были бы их мысли?»)
Я вырвал у него руку и вышел. В камере было холодно. Я постоял у зарешеченного окна, наблюдая, как гаснут последние лучи солнца.
Я продолжал ощущать пожатие его руки, и в этом пожатии была заключена целая вселенная вопросов, на которые человечество должно дать ответ.