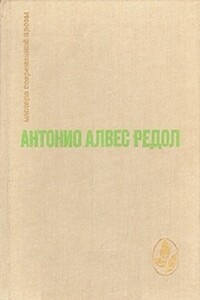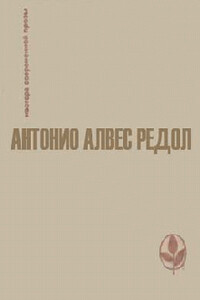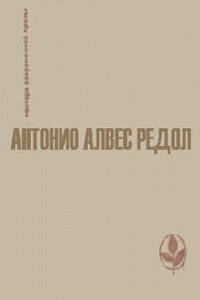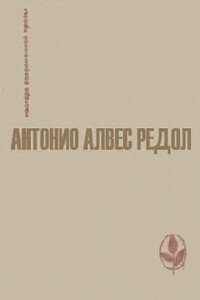Вдруг один из наших завопил и бросился на матроса. Я еле успел его перехватить — повалил и давай колотить об стенку, откуда только силы взялись. Не знаю, сколько раз я его об эту стенку вдарил, но только он под конец мешком свалился, видать, обеспамятел. Сеньору иностранцу (он, как всегда, был тут как тут) по душе пришлась моя смелость: он велел мне подняться наверх и сидеть у открытого люка с пистолетом. Вид у нас у всех был отчаянный: одежда изодрана, морды расквашены. У меня была разбита голова, и кровь никак не унималась, я все вытирал ее руками, и руки у меня тоже были все в крови.
Вернулся матрос с пресной водой. Все напились, а потом нам выдали по куску хлеба с колбасой, хотя мало кто мог есть: всем еще муторно было после качки. Рассвело, и в трюме посветлело. Море угомонилось, а вместе с ним и люди затихли, всех стало клонить в сон, и вскоре все уже храпели вповалку на полу. Я сидел наверху у раскрытого люка, но даже туда доходила вонь из трюма: воняло потом, блевотиной, мочой и еще черт знает чем.
Я попросился выйти на палубу и там отдышался на свежем воздухе, смыл с головы и рук кровь и стал глазеть на горы: они все приближались и приближались. «Работа и женщины», — повторял я про себя. Рулевой сделал мне знак спуститься в трюм. Я с неохотой повиновался, Все же на душе у меня стало легче: я верил, что начинаю новую жизнь, теперь уже взаправду новую, на новом месте, с новыми людьми. А когда-нибудь я ворочусь на родину и заговорю на чужом языке, и никто — ни Курчавый, ни Тереза — не поймет ни словечка. Очень мне тогда про это мечталось. Верно, здорово хотелось всем доказать, что и я чего-то стою…
Солнце уже вовсю шпарило, когда мы высадились в укромном месте на песчаном берегу. Перед нами была чужая земля, и она так была непохожа на нашу! И деревья здесь были не такие, как у нас, и листва на них не такая, и море другое — синее-синее, я такого сроду не видывал. Высадились мы все одиннадцать, с нами сеньор иностранец и еще какой-то тип в хаки и берете с кокардой, говорил он по-нашему. Он-то и приказал нам идти по тропинке до шоссе, а там по шоссе до города. Они, мол, с сеньором будут ждать нас у въезда в город, а сейчас они поедут вперед: нужно распорядиться насчет помещения, где мы будем жить, пока не устроимся. Они меня вроде выделяли из прочих, даже пистолет мне доверили, ну я и осмелился спросить у этого, в хаки, когда, значит, мы к работе приступим. Он похлопал меня по плечу и сказал, что работать мы начнем очень скоро, может быть, даже сегодня, а меня похвалил: «Ты, говорит, храбрый парень, нам как раз такие нужны». Очень я его похвалой загордился, и даже лицо его мне сразу стало нравиться: загорелое такое, с черными усиками, и кончики усов кверху закручены. «Ну, думаю, мое дело на мази, с этим сеньором мы уже, можно сказать, поладили. Верно, он будет меня спрашивать, на какую я хочу работу, пожалуй, стоит похлопотать, чтоб меня определили на механика учиться. Эта работа как раз по мне: и жалованье хорошее, и рабочий день всего-навсего восемь часов».
Они сели в автомобиль, машина тронулась и в один миг исчезла из глаз. А мы двинулись пешим ходом, вытянувшись в цепочку. На пути повстречался нам человек, до того смуглый, аж черный, на голове вроде полотенце навернуто, рубаха драная и штаны тоже все в дырах. Один из наших заговорил с ним, и он чего-то залопотал в ответ, да так чудно-чудно, мы прямо покатились со смеху.
— Это Африка, — пояснил нам наш товарищ, — Марокко. Мы недалеко от Рабата находимся.
Я в шутку полюбопытствовал, неужто он все это узнал от этого черномазого с полотенцем на голове? И опять все расхохотались.
Только скоро не до смеху нам сделалось. Сразу за поворотом мы увидели крытый грузовик; двое солдат, соскочив с него, направлялись к нам. Мы, понятно, струхнули и замедлили шаг. Не дать ли тягу? Да только куда побежишь? Пароход небось давно отчалил, а сеньор иностранец с этим парнем в хаки (он симпатяга, по лицу видать) ждут нас у въезда в город, да им поди тоже не с руки за нас вступаться… А эти двое уже подходят, наставив на нас свои чудные тупорылые винтовки.