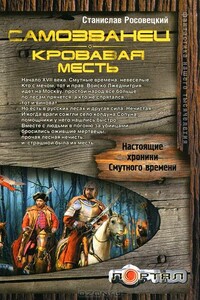Малый вздрогнул, но побоялся противиться. Лучина догорала, он беспомощно поглядел на светец.
— Хватит, Васенька, читать сегодня. Лучше со мною поговори, это тебе куда как нужнее.
— Отчего это вдруг?
— Тайна это великая, не знаю, как и сказать… Выходит, Васенька, что ты мой суженый, что мы с тобою от рождения своего друг для друга определены.
— За что же мне такая честь?
— Ох, дружочек мой драгоценный, и я ведь мечтала совсем о другом. Мечтала, что вот придет в Райгородку такой красивый, румяный… И чтобы настоящий богатырь был, на руках, думала, меня носить будет… Поглядела я на тебя, поплакала втихомолку, повздыхала. А там и подумала: хоть ты, Васенька, и скоморох, и росточком невелик, однако тоже ничего: грамотный, умный, пляшешь здорово, тихонький такой — и я на судьбу свою стала согласная.
— Как же…? Откуда, спрашиваю, ведомость тебе такая, что мы…?
— Ты, Васенька, на святках колядовал да игрища разыгрывал, а я гадала! Страшно, не без того, было, когда зачерчивалась, ну а без него, анчутки, горюна хвостатого, и не узнаешь ничего. Погадала, так чуть не обмерла, пока не расчертилась: «Черти все от девок, девка от черта, и черт от девок». Не тронул меня горюн, а правду узнала.
— А как гадала-то?
— Так тебе и скажи! Это уж наши, девичьи тайности… Гадание верное было. А ты ничего парень, тёплый, как печка. Ноги-то согрелись почти. И смирный, руки не протягиваешь, не то, что Степанка…
— Какой ещё такой Степанка?
— Да Воробей, поварёнок. Щипается тако больно. Думает, как сирота, так и постоять за меня некому. Ты, Васенька, ему поушников хороших понавешай, если про меня вякать станет! Я, дружочек мой, вовсе не ведьмина дочка, это врут всё.
— Ой-ей… — маленькие ступни жгли теперь Васку, как огнём.
— Я русалкина дочь, Васенька. У нас в деревне обычай такой был, пока поп не закрестил и заклятий не наложил с Богом тем своим господским. Такой обычай, что на Ивана Купалу парни наши гуляли с русалками, плясали через всю ночь. Однако с уговором: если русалки перепляшут, то парня забирают себе до следующего Купалы, какой им больше приглянется, а если людская молодежь, то к ним в деревню русалка жить уходит. Все больше русалки наших переплясывали и парней забирали. Такой парень через год возвращался. Вот, правда, уже не от мира сего становился, тосковал всё, да в Убеди потом все они как один топились… Васенька, ты что это дрожишь, замерз?
Малого и в самом деле в дрожь бросило. Последний уголек, оставшийся от лучины, еле краснел на полу. Глаза Вешки, при свете такие темные, сейчас мерцали двумя зелеными кружками… «Самый смелый на свете, спаси меня, милый Баженко!» — помолился Васка.
— Ну вот, а в тот раз больно бойкой оказалась наша райгородская молодежь, переплясала русалок. И пошла одна русалка, матушка моя, жить к людям, вышла замуж за моего батю покойного и, меня родивши, вернулась к своим. А батька в приморок помер.
— Ты хоть крещёная?
— Конечно же, крещёная, обижаешь меня, право… И мать была крещёная, а то как же поп мою мамку с батей повенчал бы?
— Я, Вешка, тоже не простой человек. Мой отец иноземец был, казак из самого Киева…
Распахнулась дверь, и проскрипел голос Томилки:
— Васка, ты спишь? — послышалась возня, искры посыпались, вспыхнул на мгновение и затлел трут. — Эге, да ты с девкою сумерничаешь? Вот скажу атаману, не поздоровится тебе!
— И что за жизнь такая? — шепнула Вешка на ухо приободрившемуся Васке. Волосы её выбились из-под повязки, щекотали ему щеку, они пахли полынью и ещё какой-то знакомой травой, уже не горькой. — Только соберешься с милым дружком поговорить, тут тебе и мешают. Пошли хоть в сени теперь…
— Да сидите уж, сидите, — уже потише сказал Томилка и зевнул протяжно. — Я все равно спать лягу сейчас. Смешно, право смешно.
А вот почему смешно, он уже не сказал. Захрапел почти сразу.
— Рассказывай, Васенька, рассказывай, — зашелестели сухие губы Вешки. — Мне страх как хочется узнать, за что ты мне наделён судьбою.
Утром Васке было уже не до ночных страхов: надо было подумать над тем, как повести себя с ученичком, с маменькиным сынком Петюнькой.