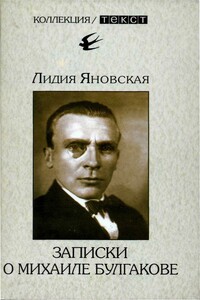Творческий путь Михаила Булгакова - страница 56
В 1923 году Михаилу Булгакову тридцать два года. Он в расцвете своих творческих сил. И «Белая гвардия» — результат вдохновения, и размышлений, и труда — произведение продуманное и зрелое. С этой присущей Булгакову способностью как в зеркалах, как бы эхом многократно отражать образ, мысль, слово. С композицией, глубоко проработанной и прочной. С кажущейся «неожиданностью» на самом деле очень важных для автора обобщений.
Даже шероховатость стиля, определенные сбои в стиле «Белой гвардии» связаны всего лишь с тем, что полностью при жизни автора «Белая гвардия» так и не вышла в свет и Булгаков никогда не готовил ее в печать — книгой. (В 30-е годы, просматривая роман, стал его однажды править, прямо по журнальной публикации, не для печати, «для себя», но выправил немного, не все.)
Но и стиль «Белой гвардии», несмотря на эти оспины, уверен, определенен, зрел, хотя и отличен от стиля прозы Булгакова в 30-е годы. Писатель безусловно добился здесь того, чего хотел: роман зазвучал многоголосо. На его страницах засвистели пули, загрохотали пушки, вразнобой зашумела уличная толпа, по-украински загомонила петлюровская конница. И сразу же контрастно и парадоксально развернулись пласты авторской речи — в этом свободном и смелом пересечении крупных и общих планов, в авторских отступлениях с их беспощадными, порою саркастическими, социально заостренными характеристиками.
Великолепными общими планами дан Город. Вот он как бы обозреваем сверху — в прекрасной поэтичности своих пейзажей. «Как многоярусные соты, дымился и шумел и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег… Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира… Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром… Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире… Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра…»
И вот этот же Город крупнее, ближе — в месяцы гетманщины, живущий «странною, неестественной жизнью», переполненный бежавшей от большевиков мразью — банкирами и дельцами, крупными чиновниками и помещиками, «арапами» из московских клубов, проститутками с звонкими фамилиями, журналистами, петербургскими и московскими, продажными, алчными и трусливыми, — всей этой нечистью, которая, «просачиваясь в щель», держала свой путь на Город, под защиту немецких штыков. «Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка».
Но и это всего лишь укрупненный общий план.
Еще крупнее: «…офицеры. И они бежали и с севера, и с запада — бывшего фронта — и все направлялись в Город, их было очень много и становилось все больше».
В этом романе Булгаков сразу же показывает себя как художник социальный. Его характеристики так социально остры, что порою напоминают о хорошо знакомом писателю хирургическом скальпеле.
Офицерство для Булгакова решительно неоднородно:
«Одни из них — кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары, выплывали легко в мутной пене потревоженного Города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до двухсот масленых проборов людей, сверкающих гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные, резного дуба квартиры в лучшей части Города — Липках, рестораны и номера отелей…
Другие, армейские штабс-капитаны конченых и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Най-Турс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов — Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией, и поручики, тоже бывшие студенты, но конченые для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они, в серых потертых шинелях, с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в Город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели…»