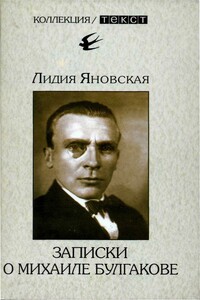Творческий путь Михаила Булгакова - страница 54
Булгаков, переживший гражданскую войну в России, свое сложное отношение к гражданской войне глубоко выстрадавший, такие формулы принять не мог. В революции Булгаков видел ту страшную, завораживающую и влекущую силу, что столько раз проступала в загадочных вьюгах русской истории, в ее смутах, восстаниях и крестьянских войнах. Революция — это была для него Россия, один из грандиозных, жестоких и мощных всплесков ее истории. Но то, что в этих событиях возникло нечто, чего при пугачевщине не было, он видел. Светлое, утверждающее, организующее начало, непостижимым для него образом возглавившее, подчинившее кровавую стихию крестьянской войны, выводившее Россию к тишине и миру. Так Михаил Булгаков воспринимал большевиков и их роль в гражданской войне. Мгла грядущего отнюдь не казалась ему черной, в будущее Булгаков в пору работы над «Белой гвардией» смотрел светло.
Но роман Алексея Толстого Булгакова глубоко поразил. Должно быть, своим чутьем художника он уловил то, что в «Сестрах» было только тенденцией, что в «Сестрах» А. Толстому так и не удалось, даже когда он позже переработал роман, то, чего Толстой добился лишь во второй части трилогии, в «Восемнадцатом годе», написанном уже после «Белой гвардии» Булгакова.
Это — «буря истории», о которой так удачно сказал впоследствии К. Федин: «В 1927 году, приступая ко второму роману трилогии, Толстой уже впустил во все двери и окна бурю истории, и она забушевала во взбудораженной, трепещущей жизнью книге, завертев, как песчинки, маленькие, милые и отчаянные судьбы героев романа».[45]
Буря истории. Ощущение бури, врывающейся в дом. Ветер, который распахивает окна, вышибает рамы, срывает занавески…
Представим себе май, а может быть, июнь 1923 года, Булгакова, вернувшегося из Киева, уже знающего, что «Белая гвардия» начинается с дома Турбиных, но еще не написавшего тех первых глав (ныне первых глав) своего романа, где в теплый дом, в ярко освещенную квартиру, входит промерзший Мышлаевский и его тяжелая винтовка с коричневым штыком сразу же занимает всю переднюю… Представим себе Булгакова, с интересом читающего роман входящего заново в советскую литературу А. Толстого. И остановимся на последней главе этого романа.
Здесь поздно вечером раздается звонок. Это Рощин, в измятой шинели, худое, темное от загара лицо его мрачно. Он входит, еще весь ощетиненный после бессонных ночей в пути, лазанья в вагонные окошки за «довольствием» и матерной, вязнущей в ушах ругани. Чистая, нарядная квартира — как будто другой мир. Зеркальный паркет, ярко освещенная прихожая («мир в вещах», — сказали бы мы языком Булгакова), прекрасные глаза прекрасной женщины. И все эти три человека «немыслимой красоты и чистоты», обрадованные его появлением.
«Напрасно без вещей приехали, — сказал Иван Ильич, — все равно вас ночевать оставим…» — «В гостиной на турецком диване…» — сказала Даша».
(Ну конечно, здесь друзей оставляют ночевать, тем более в такое время. Так же, как там, в далеком городе гражданской войны, в маленьком доме на Андреевском спуске: «Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал: «…Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой». — «Ах, боже мой, конечно». — «Белая гвардия».)
«Его повели в столовую — кормить», — продолжает А. Толстой.
(Сразу — кормить? В «Белой гвардии»: «Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались… Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно… Полно. Кишат». — «Вот что, — испуганная Елена засуетилась… — Николка, там в кухне дрова. Беги зажигай колонку…»)
«Его повели в ванную — мыться, потом в столовую — кормить», — исправит А. Толстой во втором издании своего романа.
И вот Рощин сидит в этой ярко освещенной столовой, явившийся, как и Мышлаевский, из другого, чудовищного, жестокого мира войны, и говорит отчаянные вещи: «Армии больше не существует… Фронт бежит… К осени, когда хлынут все десять миллионов…» Он «стиснул челюсти так, что надулись желваки на скулах», а потом «сильно втянул воздух сквозь ноздри, упал головой в руки на стол и глухо, собачьим, грудным голосом заплакал…». (Мышлаевский — Еленины шаги стихли в кухне: «Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру, и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами».)