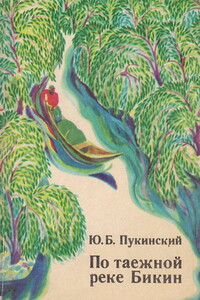Я решил, что это небывало долгая и лютая зима зажала здеш ний край в свои железные тиски примерно в 1835 или в 1836 году. Так это или не так, но когда год или два спустя в Чилкотин начали просачиваться белые, там уже не было никаких следов вапити.
С особенным воодушевлением Лала рассказывала о ручье. В дни ее детства, согласно обычаям племени, каждая индейская семья имела закрепленные за собой места для охоты. Там ин дейцы расставляли капканы на пушного зверя и охотились на чернохвостых оленей, спускавшихся большими стадами с холмов на зимовку у реки Фрейзер. Истоки ручья Мелдрам были наследственными охотничьими землями Лалиной семьи, и ни время, ни события долгих последующих лет не могли изгладить из ее памяти хотя бы частицу воспоминаний о местах, связанных с ее детством.
Она ворошила самые далекие страницы прошлого, хранив шиеся в тайниках ее неиссякаемой памяти. Она рассказывала нам о крике пролетных канадских казарок, о том, как они, сложив свои мощные крылья, отдыхали на поверхности озера, о том, как тучи крякв и других диких уток закрывали собой небо в час заката, когда птицы поднимались с болот. За плотиной, построенной бобрами, ручей кишел огромными форелями. В течение нескольких мгновений они отдыхали, набирая силы для того, чтобы одним броском переправиться через плотину в более спокойную часть ручья. Когда речь шла о бобрах, она, втягивая в себя воздух и прищелкивая языком, имитировала шумные удары их хвостов по прохладной поверхности вечерней заводи. Она пыталась с помощью жестов дать нам представление о норах ондатры на берегу ручья, о том, как греются на солнце, забравшись на хатки, построенные бобрами, пушистые норки и выдры.
Однажды, примостившись у костра и рассматривая морщи нистое лицо старой индианки, я сказал:
— Теперь, Лала, нет форелей, только чукучаны[6] да рыба-скво. И теперь индейцы больше не приносят в лавку шкурки бобров.
Она покачала головой. Ее костлявые пальцы нащупали мою руку и впились мне в тело. Подняв на меня свои невидящие глаза, она быстро сказала:
— Ничто теперь нету. — Она слегка ослабила пальцы и внезапно спросила: — Почему, знай?
Я немного подумал и наугад спросил: «Из-за бобров?» — «Айя, бобер!» — ответила она.
Я наполнил ее трубку табаком, который принес из лавки, передал Лале и поднял горящий прутик. Лала взяла в рот черенок трубки, глубоко затянулась, задержала дым во рту и затем стала медленно выдыхать его.
— Когда белый люди ходи нету, — продолжала она объяснять мне, — индеец убей бобер, когда мясо надо, одеяло, шкура надо. Мало убей. Много бобер в ручей есть. Белый люди ходи, табак дай, сахар дай, плохой вода дай, когда индеец бобер шкура носи. Индеец сумасшедший ходи. Весь бобер убей в ручей.
Ее пальцы снова вонзились мне в руку. Хриплым голосом она спросила:
— Почему белый люди индеец скажи нету: «Немного бобер оставляй надо, маленький бобер второй год ходи». Почему
белый люди скажи нету. «Бобер нету, вода нету?» Вода есть, форель есть, мех есть, трава есть.
И после минутного раздумья она сказала:
— Почему ты ходи к ручей нету, почему ты пускай опять бобер в ручей нету? Ты молодой, охота, капкан люби. Ручей есть, много бобер опять есть, форель ходи опять. Утка, гусь ходи опять, большой болото полны ондатра опять, как когда моя маленький девочка есть. Айя! Почему ты и Лили ходи к ручей нету? Почему ты пускай в ручей бобер нету?
Таким был разумный совет этой старой индианки, которая видела, как в ее край пришел белый человек, и делила ложе с одним из белых людей, когда ей было только пятнадцать лет, и которая умерла через двенадцать месяцев после того, как ей исполнилось сто лет, не потеряв ни одного зуба и не узнав, что такое зубная боль. Когда смерть свела ее пальцы, Лала этого не почувствовала: боль не коснулась ее старого сморщенного тела. Она умерла, как умирает старый дуб, слишком долго простоявший в лесу. Мгновение назад она спокойно отдыхала на своем соломенном тюфяке, безмятежно дымя трубкой. Когда табак перестал дымиться и чубук остыл, она бережно положила трубку на табурет у кровати и вздохнула: «Моя теперь уставай. Моя скоро спи». Вот как умерла Лала.