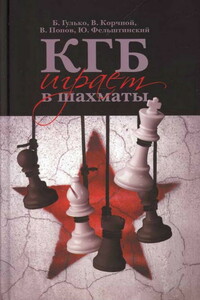Если я не придал, по словам Шумана, книге Керенского никакого значения, то почему Шуман, по его словам (см. письмо от 16 мая), считал необходимым умалчивать об этой книге «по соображениям такта»?
15. Я надеюсь, что д-р Франкфуртер внимательно прочитал чрезвычайно важное письмо Шумана ко мне из Дрездена, № 6, 16 мая 1929. Заявление Шумана суду находится в вопиющем противоречии с этим письмом, в котором Шуман тщательно подчеркивает, что явился ко мне не в качестве нейтрального издателя, одинаково готового издать и Керенского и Троцкого, а в качестве человека, «с восторгом», «с воодушевлением» писавшего свою книгу о Либкнехте и готового «на всю жизнь» вступить в связь с Троцким и поставить весь свой аппарат и все свои силы на службу делу распространения книг Троцкого в Германии. Все это подлинные выражения письма Шумана. Это ни в каком случае не может быть истолковано как условная вежливость коммерсанта. Такой саморекомендацией Шуман исключал возможность предположения с моей стороны, что он мог только накануне издать клеветническую книгу против того дела, которому служили Либкнехт и Ленин и которому служу я.
Шуман подчеркивает свои многочисленные и длительные разговоры со мной, даже преувеличивая их удельный вес. Но этим он дает только лишнее показание против себя. Ведь в письме своем от 16 мая сам Шуман резюмирует содержание этих разговоров, вернее, их общий дух, не в смысле разговоров нейтрального издателя с одним из случайных авторов, а в смысле особого духовного общения, основанного на исключительной нравственной симпатии и проч. и проч. Если даже откинуть патетические преувеличения стиля, то все же вывод получается несомненный и притом двойной: этого тона бесед не могло бы быть, если бы Шуман показал мне проспект, в котором он о Керенском говорит с таким же «воодушевлением» и «восторгом», как и о Либкнехте; с другой стороны, я лично, как бы скептически ни относился к излияниям Шумана, не мог все же допустить, что этот человек вчера только издал гнусную книгу, направленную против Ленина и меня.
Мне кажется, что это есть центральный момент всего дела, более убедительный для умного судьи, чем всякая присяга.
Принкипо, 31 декабря 1929 г.
Если желаете знать персональную причину поведения Гильфердинга, возьмите мою книгу Terrorismus und Komunismus (Anti-Kautsky)[355], найдите там главу Kautsky, Seine Schule und sein Buch[356], там есть характеристика Гильфердинга, которой он не может мне простить, потому что он слишком явно узнал в ней себя. Хорошо бы теперь перепечатать эту характеристику: всего полстраницы.
Есть и еще причина. Вскоре после октябрьского переворота я получил от Гильфердинга письмо, в котором он просил меня освободить из плена одного из его приятелей, из породы венских «докторов» (Herr Dr.)[357]. Ни строчки, ни слова о самой революции! Только просьба о приятельской «услуге», которую я мог бы оказать только в порядке беззакония, личного произвола и грубой несправедливости по отношению ко всем немецким и русским пленным. Нужно еще прибавить следующую деталь. В 1907 году, познакомившись со мною у Каутского, Гильфердинг сразу предложил мне перейти на «ты». Не без удивления я вынужден был согласиться. Так вот письмо начала 1918 г. о беззаконном освобождении приятеля было написано на «ты», и в то же время ни слова об Октябрьской революции. Я не верил своим глазам, хотя и знал, что Гильфердинг — филистер[358] насквозь. Я рассказал о просьбе Гильфердинга Ленину.
— А что он пишет о революции?
— Ни слова.
— Не может быть!!
— Однако так.
— Вот дрянь.
Таков примерно был наш диалог. Я Гильфердингу на его письмо не ответил и просьбы его, конечно, не удовлетворил. А позже я дал вышеупомянутую характеристику его в книге против Каутского.
[1929]