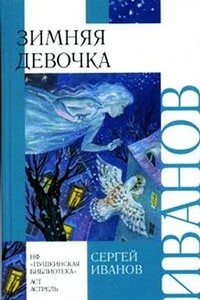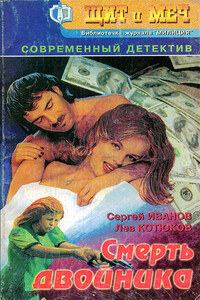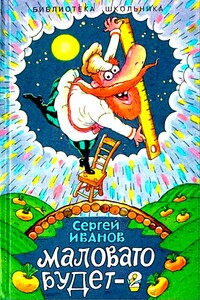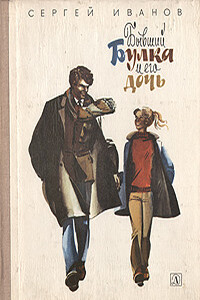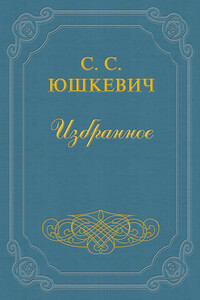«Нашей маме»?.. С высот полуотвлечённого разговора Стелла свалилась на землю. Всё спуталось в душе. Он мечтал улететь в свою Якутию, на свободу, и «наша мама» с ним развелась. Это было плохо. Но если б не это, не появилось бы ни Горы, ни Вани — всей их семьи.
Но раз появились Гора и Ваня, то у неё не было и уже не будет того, что бывает, когда отец и мать — оба настоящие.
Но ведь она не имела права так думать — предавать!
Всё-таки её жадная жалость к себе пересилила:
— А зачем же ты уехал-то?
Он усмехнулся, пожал плечами.
— Сам уехал, а мы остались!
— «Мы»… — Он снова пожал плечами: — А что мне было делать? Не родить тебя?
— Нет, ты что! — невольно вырвалось у Стеллы.
Отец засмеялся:
— Хочется жить-то? Вот и мне хочется. Ну и… кому-то надо там работать…
Отлично прикрывается. Сказала чужим голосом:
— Да не поэтому. Просто сбежал!
Этих слов она так же от себя не ожидала, как и того движения рукой. Кажется, что-то подобное она очень давно слыхала от Нины.
Отец так поднял на неё глаза, что Стелла сразу проглотила остаток своих умных речей.
— Сбежа-ал?! — Он это переспросил с надменным удивлением, будто действительно мог ослышаться. — А ведь ты не мне говоришь, дочь, а другому… человеку…
— Другому? — И тут же догадалась: Горе!
Он всё знает. Что Гора ушёл. Эх, Нина! Как же это можно рассказывать, так предательничать?.. А сама она, глубоколюбимая Стелла Романова, разве не предательничает, когда сидит и чувствует разное там электричество? Надо рвать отсюда!
Она поднялась:
— Нет. Я говорю это именно вам, понятно?
— Ну-ну, полегче.
— Понукать будете других. Бонжур-покеда!
— Сядь, Стелла, — он догнал её у двери.
— Дяденька! Чего вы меня хватаете! — сказала она громко.
Отец сразу бросил её руку. Не оборачиваясь, пошёл к столику. И через несколько секунд Стелла уже затерялась в ярмарочной пёстрой толпе.
От ярмарки, между прочим, совсем недалеко до метро «Спортивная». И там, под землёй, тоже почти всегда толчётся многое множество праздного народа. Именно праздного, потому что не может же у стотысячной толпы одновременно быть отпуск или отгул.
Стелла беспощадно буравила людскую мешанину, как маленький метеор, и взрослые расступались перед её решительностью. Она вся раскалилась — тоже, как метеор. Только метеоры раскалены снаружи — от трения об окружающую среду. А Стелла была раскалена изнутри, от своей собственной досады.
Вместе с другими частицами всеобщей толкотни она оказалась втянутой в двери вагона. Понеслась через налитый чёрным воздухом тоннель. Огни за окнами проносились ярко, как выстрелы.
До её дома от Лужников ходу было минут двадцать пять. И улицы всё приятные, как раз для хождения пешком. Так нет же. Она предпочитала стоять стиснутая, среди множества чужих рук, спин, животов. И почти не замечала этого, жительница громадного города. Только вначале сердито и энергично подвигала плечами, отвоёвывая необходимые для выживания сантиметры. Теперь можно ехать хоть на край света — в Сокольники, в Черкизово и дальше.
Впрочем, это при спокойном настроении. Но как кислота аккумулятор, её душу разъедала злость. От этого разъедания, как всем известно, в аккумуляторе рождается электричество, энергия. И в Стелле тоже рождалась энергия. Шарики в голове крутились, мысли бегали, словно пожарные перед горящим домом, то есть хотя и не очень организованно, однако быстро.
Сияние за сиянием перед ней вставали во всей красе картины её воображаемых разговоров с… этим отцом: как она ловко обрезала его, насмехается, мстит! Противник уже висел на канатах, судья орал: «Стоп! Стоп!», а она всё била его упругой кожаной варежкой…
Наконец додумалась до высшего наказания: «Вообще тебя больше никогда не увижу!»
И вдруг почувствовала, что в этом есть какое-то тайное облегчение и для неё самой. Вот странно. Подумала-подумала — и пришлось признаваться: не давали ей спокойно жить две фразы, пошлые фразочки:
«Бонжур-покеда!» и «Дяденька! Чего вы меня хватаете!».
Есть люди — их сколько хочешь, — которые могут сделать любую пошляндию, если знают, что их здесь никто больше не увидит. Но Стелла была не из таких. И теперь её жёг стыд, а это горькое солнце… До чего ж всё-таки жалко, что слово не воробей!