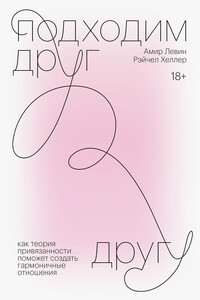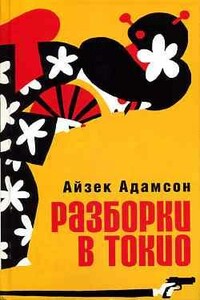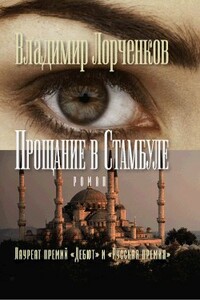Вчера я взял в руки то, что осталось от сожженного тела Вильгельма, его лицо почернело и сморщилось, его плоть все еще дымилась. С неослабевающей надеждой на спасение Вильгельма я предал его прах земле. Боюсь, что само сокровище, ради которого Вильгельм пожертвовал своей жизнью, может ожидать похожая участь. Как и меня.
Тогда единственное, что останется, это сей дневник.
Я смиренно надеюсь на то, что он избегнет забвения и что эти слова явятся указателем и свидетельством существования того, ради чего стольким было пожертвовано, но что не пропало. Затем небеса распахнутся, и пение ангелов отомкнет сердце праведника, потому что они пропоют ему те же слова, какие пели другим до него. Да будут живы они во веки веков в песне обновления, обещающей длиться и длиться».
— Что это? — спросил Гил.
Он ждал ответа, надеясь, что она снизойдет до него.
— Обрывок, засунутый под переплет дневника. Возможно, Элиас сам спрятал его туда почти десять столетий назад.
Сердце Гила взволнованно заколотилось. Это был недостающий кусок головоломки. Часть, о которой, по его сведениям, еще не упоминалось. Именно то, чего он и ждал.
— Больше о нем никто не знает, — добавила Сабби.
— Никто?
— Никто.
— Даже де Вриз? — спросил Гил.
Она покачала головой.
— А Ладлоу знает о нем?
— Знал, — ответила она негромко.
Лицо ее заострилось.
— Что вы имеете в виду? — спросил Гил.
Он ждал ответа, отчетливо сознавая, что в данный момент она пытается облечь в слова то, что ему уже и так стало ясно.
— Ладлоу мертв, — просто сказала она и отвернулась, чтобы снова убрать в папку на молнии пожелтевший клочок бумаги.
Гил схватил ее за плечо и повернул к себе лицом. Хрупкий древний документ полетел на пол. Сабби охнула.
— Что вы имеете в виду под словами «он мертв»? — повел допрос Гил.
— Он мертв, ясно? Он мертв. Вот и все.
— Нет, не ясно и не все. Я имею право знать, что с ним случилось. Я, в конце концов, знал старика. Вы не можете просто сообщить, что он умер, и все тут, — резко выпалил Гил.
У Сабби отчаянно билось сердце, но голос ее оставался твердым. А на лице не отражалось ни грана эмоций.
— Прежде всего, — заговорила она, — ты видел Ладлоу лишь раз, и не больше. Ты не знал его. Если ты можешь думать о нем всего лишь как о каком-то старике, ты его не знал.
Она наклонилась и осторожно подняла с пола упавший обрывок бумаги. Молча поместила его в пластиковое хранилище затянутыми в хлопок пальцами.
И продолжила с той же невозмутимостью:
— Второе: в своем эгоистичном приступе гнева ты чуть не уничтожил то, за что старик, как ты его называешь, отдал свою жизнь.
Гил уставился на древний обрывок. Ему надо бы знать недосказанное. Но расспрашивать было бы бесполезно. Более того, даже не стоило и пытаться. Что бы Сабби ни знала о смерти Ладлоу, она ничего не расскажет ему. Что бы она ни чувствовала, ему этого тоже не выкажут. Вечный и жесточайший контроль. О, как бы ему хотелось увидеть ее расслабившейся. Хотя бы однажды.
Очевидно подведя под разговором черту, Сабби повернулась и направилась в другой угол комнаты, чтобы вернуть древний документ в стенной сейф.
В голове Гила промелькнул образ Ладлоу, который мог умереть из-за десятка различных причин. Его вдруг охватила нешуточная печаль.
«Несчастный старик».
Припомнив пренебрежительную отповедь Сабби, Гил показал ей вслед средний палец. Глупый жест, жест бессилия, но ничего другого в данный момент он себе позволить не мог.
Ну и гадина же!