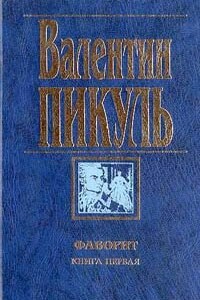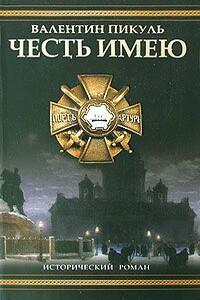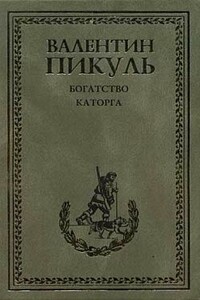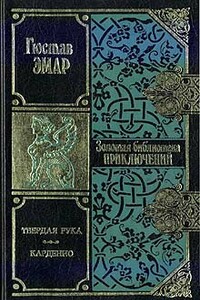Был обычный мирный день в дворянской семье Коковцевых. Чинно и благородно супруги обедали, а горничная Глаша услужала господам. Ольга Викторовна неожиданно сказала:
– Можешь полюбоваться на ее фигуру.
– А в чем дело?
– Ты посмотри и все поймешь…
Только сейчас Коковцев заметил приподнятый живот горничной, украшенный накрахмаленным фартучком с кружевами.
– Глаша, что это значит? – спросил кавторанг.
– То самое и значит…
– Я не могу на нее жаловаться, – снова заговорила Ольга, – она не шлялась по бульварам и не торчала в подворотнях. Все произошло дома – в этой квартире. Твой любимец Гога решил срочно продолжить славный и древний род дворян Коковцевых.
Коковцев перестал есть суп:
– Глаша, это… Георгий Владимирович?
– Да, – созналась горничная.
– С абортом уже опоздали, – произнесла Ольга Викторовна. – Но я не стану держать в своем доме эту псину.
Глаша вдруг запустила подносом в стену:
– А вот рожу и плакать не стану! Меня любой и с дитем возьмет. Уж если хотите, так я скажу… Гога ваш ни при чем тут! Сама на него вешалась – сама за все и отвечу!
Ольга Викторовна строжайше указала Глаше:
– Сейчас же подними поднос и убирайся в медхен-циммер. А как у вас будет с Гогою дальше, это уж мне решать.
– А может, и мне? – с вызовом ответила Глаша.
Коковцеву сделалось тяжело. Он по себе знал, какую страшную силу может иметь женщина, и если Глаша сумела покорить сына, то эта цепкая плотская память останется на всю жизнь несмываемой, как глубокая японская татуировка. Подавленный внутренним признанием своей слабости (и потому сразу же начиная оправдывать слабость и сына), Коковцев не находил нужных слов. Ясным и чистым голосом жена сказала:
– Все это результат женской распущенности…
– Прекрати, – тихо велел ей Коковцев.
– Почему ты кричишь на меня? – вышла из-за стола Ольга. – Ты кричи на нее! Кричи на сына! Кричи на своих матросов!
Глаша подняла поднос.
– Жаркое подавать? – спросила она, неожиданно улыбнувшись, будто скандал в доме Коковцевых доставил ей удовольствие.
Ольга Викторовна нехотя вернулась за стол.
– Подавай! Но с Гогой продолжения у тебя не будет. Уж я сама позабочусь об этом, миленькая.
– А куда он денется., от меня? – хмыкнула Глаша.
– Глаша, – сказал Коковцев, – ты сейчас лучше молчи…
В субботу из корпуса вернулся цветущий Гога.
– Гардемаринов отпустили сегодня раньше, – сообщил он.
– Вот и отлично, – ответил отец, – Значит, у тебя хватит времени, чтобы иногда побыть и с родителями.
Лицо сына сделалось настороженным.
– А что здесь произошло? – спросил он.
– Ни-че-го.
– Но, папа, ты это сказал… таким тоном…
– Я всегда, ты знаешь, говорю таким тоном.
В комнате Гоги воцарилась долгая тишина.
Ольга Викторовна в раздражении сказала мужу:
– Наблудил и притих. Ты разве еще не говорил с ним?
– О чем мне говорить с этим балбесом?
– Сам знаешь, что следует ему сказать.
Коковцев был очень далек от семейной дипломатии:
– Зачем же я, как попугай, стану повторять сыну то, что ему наверняка успела доложить сама же Глашенька?
– Но она представила ему все в ином свете.
– Свет на всех один: я дед, ты бабка… успокойся.
– А это мы еще посмотрим, – последовал ответ. Среди ночи она растолкала спящего мужа:
– Скрипнула дверь… Гога опять у нее.
Коковцеву совсем не хотелось просыпаться:
– А что я, по-твоему, должен делать в таком случае? Ну, скрипнула дверь. Так что? У нас все двери скрипят.
Ольга Викторовна жалко расплакалась:
– Так же нельзя… пойми, что нельзя так!
Коковцев спустил ноги с постели и задумался:
– Чего ты от меня требуешь? Чтобы я тащил сына за волосы? Я не стану унижать ни себя, ни его. Я мог бы сделать это в одном лишь случае: если бы Гога насиловал Глашу… Но если она для него первая женщина, так она для него свята!
Ольга Викторовна, продолжая плакать, стала раскуривать папиросу, роняя на ковер спичку за спичкой:
– Я ее завтра же выгоню… не могу так больше!
– Выгонишь? Беременную?
– Черт с ней и с ее щенком, который родится.
– Не груби. Утром я поговорю с ними. Ложись и спи…
Утром Коковцев пришел к Глаше на кухню.
– Нельзя ли вам этот роман прекратить?
Сказал и сам понял, что ляпнул глупость.