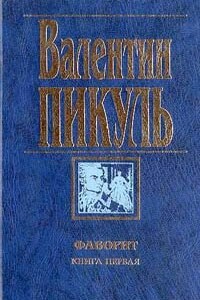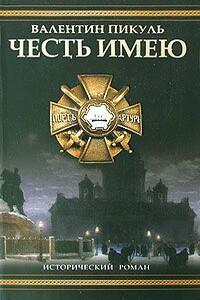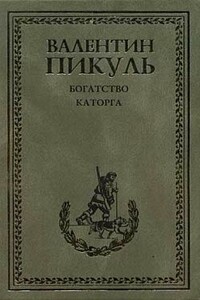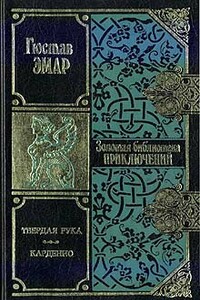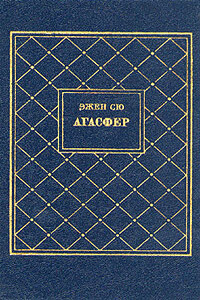Игорь, появляясь в Ревеле, первым делом хватал коньки и отправлялся в немецкий клуб «Фолькспарк», где по вечерам работал каток с духовою музыкой. Однажды его уже видели гуляющим с какой-то местной Аспазией. К своему будущему Игорь относился легко, и хотя в учебе не отставал, но и не ставил себе целью обогнать других. К жетону за стрельбу из револьвера он прибавил второй: «За отличное фехтование». Глаша, гостившая у Коковцевых, была очень внимательна именно к Игорю, и это внимание легко объяснимо: своими замашками Игорь напоминал ей Гогу… Однажды, в кругу родителей, гардемарин сказал, что карьеру сделает быстро:
– Поеду в Либаву и окончу школу подводного плавания.
– И не думай! – возразила мать. – Мало мне горя, когда вы по воде плаваете, так тебя еще и на дно потянуло.
– Но это же так интересно, мамочка!
– У тебя все интересно… Избавь тебя Бог!
– А что вы подарите мне, когда я выйду из Корпуса?
– Секундомер. Как заядлому спортсмену…
После отъезда Игоря в столицу Коковцев сказал жене:
– Звезд с неба не нахватает и пороха не придумает.
– Но он же еще ребенок. Ты разве не видишь?
– Какой там ребенок, если через год ему уже людей навытяжку ставить… Завтра – офицер!
– Владечка, ну какой же из него офицер? Никита – да.
Разговор супруги продолжили в спальне.
– А я, Оля, все время думаю, что хотел сказать Никита этой дурацкой фразой: «Кажется, я нашел что мне надо». Вообще-то, самые страшные люди на свете – идеалисты.
– К чему это? – не поняла Ольга Викторовна.
– Я опять о Никите… Мир должен принадлежать материалистам, вроде Цезаря или Екатерины Великой, на худой конец пусть даже Наполеонам и Бисмаркам! А с этим идеализмом рождаются всякие завихрения в голове, и как бы чего…
Коковцев не закончил фразу – он уже спал. За него домыслила фразу жена: «…как бы чего не вышло». Она лежала на спине с открытыми глазами. Затем потихоньку достала из портсигара мужа папиросу и закурила (чего ей делать было никак нельзя, об этом и врачи предупреждали). Над заснеженным городом, над его старинными башнями и гаванями, над переулками и замками воцарилось ночное безмолвие. Ольга Викторовна, покуривая, решила: «Хорошо, что здесь нет телефона, из которого сыплются прямо в ухо всякие гадости и приказы…»
Страшным воплем разорвалась дремучая тишина.
Это вдруг закричал Коковцев…
– Владя, Владя, – тормошила она его. – Что с тобою?
Он сел на постели. Долго приходил в себя.
– Сахар, – отчетливо произнес он.
– Ты сведешь меня с ума… Какой сахар?
– В минах…
Во всех морских минах есть сахар. Пока он не растаял, он удерживает боевую пружину, и мина тогда безопасна. Но стоит морской воде растворить сахар, будто в стакане чая., пружина заполняет освободившееся после сахара пространство. Внятный щелчок – и все: теперь только тронь эту заразу – и взлетишь на воздух.
Коковцев еще не мог прийти в себя:
– Мне приснилось, будто сахар растаял, я сунул палец под эту проклятую пружину и держу ее. Держу, держу… Это был кошмар! А ты, кажется, курила? – принюхался он.
– Только одну. Больше не буду. Ложись.
– До сна ли тут после всего…
Прошлепав до буфета, Коковцев выпил коньяку.
– Надо бы провести сюда телефон, – сказал он. – А то живем как в лесу. Может, я нужен в Порккала-Удд? А может, ледоколы уже начинают ломать там лед?
* * *
Зима прошла словно сон, лед на Балтике посерел. Вот и отсвистали на кораблях первые весенние дудки боцманматов:
– Вино наверх! В палубах прибраться! Ходи веселее! Сейчас и пообедаем.
Баталеры бережно, будто мать – родную дитятю, тащут ведьму-ендову с водкою. На камбузе заградителя «Енисей» коки готовят пробу для начальства:
– Снизу, ты снизу черпай, шалява! Штобы с мясцом попалось… подцепляй яво! Да жирком сверху прикрась… во!
На флоте все делается четко и ясно. Без выкрутас.
– Проба готова, ваше благородие! – вахтенному офицеру.
– Проба готова, ваше высокоблагородие! – командиру.
– Проба готова, ваше превосходительство…
Последнее обращение касается уже Коковцева; ложкой он размешивает на дне гущу и, выудив из тарелки мясо, будто опытный тральщик забытую Богом мину, схлебывает одну жижу. А пока он вникает во вкус борща и каши, подчиненные отдают ему «честь», имея при этом на лицах сострадательное благоговение, ибо – не секрет! – не только ему, адмиралу, но и всем иным жрать хочется. Ну прямо спасу нет…