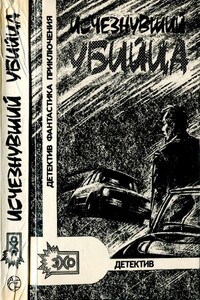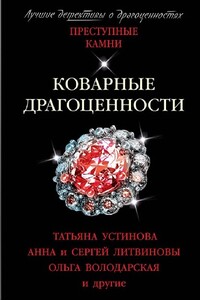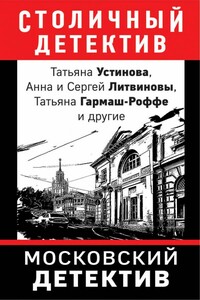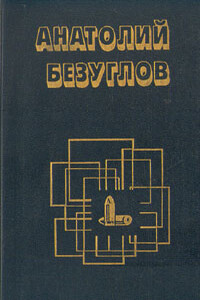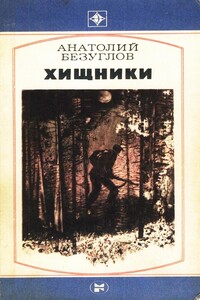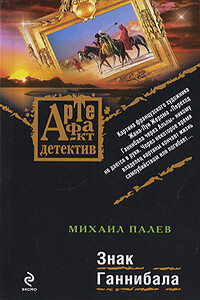— Не требуется! — весело рассмеялся майор. — Собаки у нас свои имеются... — Он стал серьезным. — А вот скажи, Николай Николаевич, земляки Остапенко и Свиридова у вас в лесхозе есть?
— Земляки? — удивился парторг.
— Ну да! Из Белоруссии... Ведь Остапенко и Свиридов — белорусы...
— Кто у нас белорусы? — сдвинул брови Николай Николаевич. — Горбаткин, звеньевой, белорус, из-под Гомеля....
— Сколько ему лет?
— Молодой совсем... Только что женился...
— Так! — Майор кивнул головой. — А еще кто?
— Лесовод наш, Зенкевич, в Белоруссии, на Полесье, работал...
— Сколько лет Зенкевичу?
— Ну, лет тридцать пять...
— А еще есть люди из Белоруссии?
— Еще?! — Николай Николаевич покачал головой. — Еще вроде нет... — И вдруг, вспомнив кого-то, вскинул голову: — Стой! Есть еще один белорус! Канцевич Семен Федорович. Три дня назад по рекомендации Петра Ивановича Остапенко принят на должность звеньевого лесопитомника... Остапенко и Канцевич — друзья по партизанскому отряду...
«Вот он! — подумал Головко. — Похоже, что Канцевич и есть этот третий... Недавно прибыл... Знает Остапенко и, наверное, Свиридова давно...»
Стараясь не показать острого чувства заинтересованности, майор отхлебнул из чашки и с безразличным видом спросил:
— Личное дело на него имеется?
— Вот, пожалуйста! — Парторг перебрал несколько тоненьких папок, лежавших на краю стола. — Вот дело Канцевича...
Майор Головко раскрыл папку. С фотографии на него смотрело благообразное немолодое лицо. В листке по учету кадров значилось, что с 1941 по 1943 год Канцевич находился в партизанском отряде, затем угодил в фашистский концлагерь, откуда был освобожден Советской Армией.
«Неужели это тот самый, третий?» — подумал майор, вглядываясь в ничем не примечательное, немного оплывшее от возраста лицо Канцевича. И спросил:
— Где он сейчас?
— На работе... В лесопитомнике.
— А живет где?
— Рядом, в общежитии... — Николай Николаевич покачал головой. — Только думается мне, что опять идете вы по ложному следу. Канцевич солидный человек, в прошлом партизан, друг Петра Ивановича. И внешность у него солидная, располагающая...
Майор Головко невесело усмехнулся:
— Эх, товарищ парторг! Обычно так и бывает, что у самых заядлых жуликов самая почтенная внешность. Иначе им нельзя... То-то здорово было бы, если бы можно было по внешности преступника распознавать! Пойдем-ка по общежитию пройдемся. Только так, чтобы никто не догадался, в какую комнату нам нужно. В какой, кстати, этот самый Канцевич проживает?
— А черт его знает!.. Попросим коменданта, чтобы он называл нам жильцов...
Из общежития майор Головко вышел со стаканом, взятым из комнаты Канцевича и имевшим явные отпечатки его пальцев. Взамен был оставлен другой, похожий стакан.
— Вот никогда бы не подумал, что милиция стаканы таскает! — рассмеялся Николай Николаевич. — Теперь хоть знать будем, с кого за пропавшие стаканы спрашивать!
— Ладно! Представляй счет — оплачу! — ответно засмеялся майор. — А личное дело этого самого Канцевича я у тебя временно заберу. И прошу сделать так, чтобы никто и не подозревал, что я интересовался Канцевичем. Скажешь коменданту общежития, что милиция соблюдением паспортного режима интересуется...
* * *
Майор Головко сразу даже не узнал Остапенко, настолько этот серый, сгорбившийся человек не походил на краснощекого богатыря. Глаза лесника безжизненно и безразлично смотрели в пол. Он даже не поднял взгляда, когда майор вошел в комнату и лейтенант Захаров вскочил со своего места за столом. Только руки, крупные, сильные руки рабочего человека не хотели, не могли поддаваться апатии. Они все время двигались, эти тяжелые руки, ощупывая оцепеневшее тело инстинктивными, шарящими движениями.
— Товарищ майор! — четко начал докладывать лейтенант Захаров. — Заканчиваю допрос обвиняемого Остапенко. Он показывает...
— Ладно! Не надо! — остановил его майор. — Дайте протокол допроса...
Усевшись сбоку стола на расшатанный стул, майор принялся читать протокол. Запись показаний была сделана толково и грамотно. Впрочем, все ответы обвиняемого можно было свести к короткой формулировке: