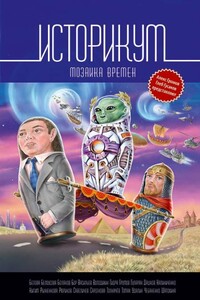Оттуда, из-под кровати, выбирались иногда чешуйчатые птицы, вырывали клочья мяса из икр, из рук, тянулись к лицу. Но это вечерами, ночами…
Нет, подумала Олив. Того, кто злой, еще нет. Он придет, но его еще нет.
Медленно открылась дверь. Не та, которая вела в коридор – белая, с черным глазком, – а та, которая всегда за спиной.
Олив села, набросила на плечи халат. Пушистый. Гостей, даже злых, стоит принимать именно в пушистом халате…
– Входите, господа! – сказала она громко.
Руки коснулись ее.
– Так сразу, да? – она стряхнула с себя черную волосатую лапищу. – Это не по закону…
Но тут открылась другая дверь – белая. За нею не было никого, долго не было никого, а потом резиново раздулись и заполнили собой весь проем две синие фигуры, гротескные, с огромными ногами и огромными ладонями, обращенными вперед, с отвратительно маленькими лицами. Но это были царь и царица, и потому Олив быстро встала, поправила волосы и сделала глубокий придворный реверанс, одновременно пытаясь оттолкнуть наглые щупающие где попало руки.
– Ваши величества, прошу вас, входите. Простите мой угрюмый вид…
Царь был сегодня в жемчужном жилете и голубой мантии, подбитой колонком. Царица оказалась мужчиной – почему-то все, входящие в эту комнату, делались снизу по пояс голыми – но Олив постаралась не обращать внимания на такую несообразность. То ли еще бывает…
– Л'хту занцар апо тринахт, хтомо си авмирг ма врахт! – подняв руку, провозгласил царь: он был пророк и поэт. – Грисда ур тринахт борку – альмирахт искиль ма тху!
Грозные чеканные строки повергли Олив в ужас. Они предвещали позор и смерть. Но нельзя было возражать царю…
– Да, ваше величество, – прошептала она, становясь на колени и опуская голову. – Так, как вы пожелаете…
Она стояла на зеркале, а по ту сторону зеркала была площадь, толпа, костер – и неумелый палач, мальчишка, пытающийся разжечь проклятый костер под дождем. Толпа давала ему советы, кричала, хохотала, и наконец даже она, привязанная к столбу, нет, к кресту, почему-то к кресту – даже она начала давать ему советы, а он ерзал и суетился, неумелый испуганный мальчишка, пытающийся казаться настоящим палачом…
– Такие дела, князь, – доктор Богушек развел руками. – Нам не пробиться к ней.
– А нет ли в ее безумии системы, Владимир Францевич? – князь в сомнении потер бровь.
– Система есть в любом безумии. Это разум бессистемен. Она не безумна, вот в чем суть проблемы. То есть… – он замолчал.
– Я, кажется, понимаю, что вы хотите сказать. Хотя сам я не улавливаю разницы…
– Нет, я о другом. Система, не система… Есть характерная деталь. Одна деталь, которая стоит системы.
– Слушаю.
– Дверь. Во всех ее экскурсах присутствует дверь. Она то и дело то перед ней, то за нею; то может пройти, то нет; и за дверью ее ждет то находка, то потеря… Но дверь присутствует всегда. Равно как и зеркало. Дверь и зеркало. Вот в чем интерес.
– Значит, вы принимаете наше предложение?
– Не давите на меня. Я обещал подумать, и я подумаю.
– Мы очень рассчитываем на вас, Владимир Францевич. Может оказаться так, что в ваших руках окажется судьба короны…
– Это меня и пугает. Калерию Вячеславовну посетим сейчас, или желаете перевести дыхание?
– Пойдемте сразу. Кстати, Глеб Марин знает, что это его мать?
– Может статься, что и не знает. Сам он о ней не спрашивал ни разу, а я ему в душу руками не лез…
Меррилендскую эскадру обнаружили на дальних подступах к Хармони второго августа. Известие это привез авизо «Заводной» третьего на рассвете, и в полдень палладийская эскадра вышла в море. Она насчитывала девять вымпелов: три новейшей постройки бронепалубных крейсера «Орлан», «Сарыч» и «Лунь», два старых, но прошедших переоборудование броненосца «Святогор» и «Черномор», легкий крейсер «Панголин» и три фрегата: «Ветеран», «Татарин» и «Яр». Полтора десятка мелких судов: корветов, сторожевиков, канонерок – должны были нагнать эскадру до наступления темноты.
Вторжения трудовиков на Хармони ожидали уже около года. Разведка доносила о ходе его подготовки. Поэтому, с одной стороны, их ждали – а с другой, когда ожидание растягивается на год, оно почти перестает быть ожиданием…