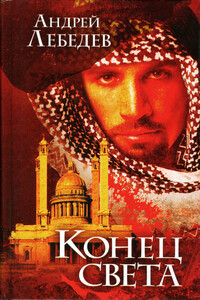– Это на нас форма не железнодорожная, а метрополитеновская, – как бы оправдываясь, с извиняющейся улыбкой сказал чиновник, – мы служба московского метрополитена, так что просим любить и жаловать, господин Добровольских, любить и жаловать просим.
Эскалатор уже спустил их на уровень перрона, и чиновнику пришлось срочно разворачиваться, чтобы не упасть.
– Вот и приехали, а вот вас уже и дожидаются, там, видите?
В центре совершенно пустой, но ярко освещенной станции стояли трое.
Двое мужчин и одна женщина.
Сердце сжалось в груди.
Неужели?
Неужели теперь вот, сейчас вот, он увидит Риту?
Ноги словно онемели. В те места, где должны были бы быть мышцы, кто-то словно ваты напихал. И коленки непроизвольно стали подкашиваться, подгибаться.
Антон звучно ступал по гулкому черному габбро, по белому мрамору, по красному отполированному граниту мозаичного пола подземного дворца, ступал, с каждым шагом приближаясь к повернутой к нему лицами группе людей, и не узнавал своих чувств. Он словно закаменел в своих чувствах – он глядел на молодую стройную женщину, стоявшую между мужчинами, и она вроде бы тоже смотрела на него, на Антона.
Но до них – до Риты, Игоря и Витьки было еще так далеко! И лиц и глаз еще нельзя было разглядеть.
Из проема между двумя пилонами толкаемый каким-то татарином, тоже в железнодорожной фуражке, вдруг выехал наперерез Антону синий пылесос для уборки станций.
Антон, едва не столкнувшись с этим пылесосом, все глядел вперед – на Риту. Она?
Она это? Неужели она?
– Пекарь, ну-ка брысь отседова покуда! – грозно прикрикнул на татарина метрополитеновский чиновник, и пылесос тут же шарахнулся в сторону, освобождая Антону его дальнейший путь.
Его путь к Ритке.
Не доходя метров, может, двадцати, Атоха уже стал различать не только застывшие улыбки на лицах старых друзей, но даже и блеск в их глазах.
– Ну, вот и Антон, слава Богу, – сказала Рита, осторожно протягивая Антону руку, не уверенная в том, станет ли он с нею целоваться или ограничится простым рукопожатием.
Антон как-то неловко захватил кончики ее пальцев, подержал какое-то мгновенье со смущенной улыбкой, а потом, совсем стушевавшись, вдруг запоздало попытался поцеловать Ритке руку, но, позабыв, что на голове у него была совершенно идиотская бейсболка, вместо губ, уткнулся в Риткино запястье ее длинным козырьком.
Ритка засмеялась: – Ну такой же увалень, время тебя не меняет, Антон.
Игорь с Витькой тоже поспешили замять неловкость встречи, похлопывая по плечу да приговаривая: – Ну, здоров, здоров, приятель! Сколько лет, сколько зим…
Метрополитеновский чиновник все это время стоял поодаль и улыбался.
– Ну, Ираклий Авессаломыч, как там у тебя, все ли готово? – спросил Сохальский метрополитеновского, когда с церемонией принятия Антона в компанию все было закончено.
– Не извольте беспокоиться, – откликнулся метрополитеновский, – все в лучшем виде, как вы заказывали.
– А как ты заказывал? – весело и даже задорно спросила Ритка.
– Вагон с номером четыре семерки я заказывал, – ответил Игорек, – и стол с портвейном три семерки, как было двенадцать лет назад в том самом трамвае.
– Стола там тогда не было, – заметила Ритка.
– Правильно, не было, – согласился Игорь, – но ведь и мы тогда были моложе и не в чинах.
Антон любовался Риткой.
Снова, как и тогда. Как всегда. Он навеки обречен только глазами ласкать и гладить ее.
Лук, бат доунт тач.
Иным можно, но не ему.
Что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
А он, а он даже и не бык.
Он всего лишь Антоха – принеси сигареты, сбегай за пивом.
Он всю жизнь любил эту девушку, а спали с нею эти – Витька и потом Сохальский.
Он, Антоха, – чернь, недостойный леди Гадайвы простолюдин.
Он может любить ее только глазами.
Они могут руками и губами, потому что они аристократы, а он, а он может только глазами и мечтами.
– Господа, просим, просим, вагон подан к левой платформе, – снова запричитал метрополитеновский.
Войдя в проем между отделанными цветным стеклом и хрусталем пилонами, Антон увидал короткий поезд, состоящий из одного привычного голубого вагона, прицепленного к оранжевой дизельной мотрисе.