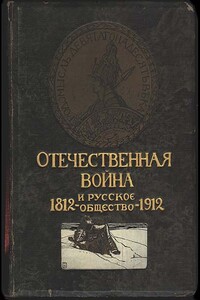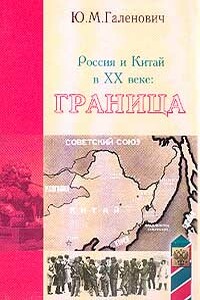Это было большей утопией, чем «фантастические» планы местных стратегов.
Головин пробыл около месяца в Омске. Болезнь и, очевидно, нежелание связывать свое имя с безнадежным или, по меньшей мере, неверным делом побудили его покинуть Омск>95. После беседы с возвращающимся Головиным в Токио Болдырев записал 14 ноября: «Как умный и предусмотрительный человек, он сейчас же понял, что ошибся (в смысле оценки сибирской обстановки), и сразу отошел, правда, не без благожелательного содействия своего «друга» — ген. Дитерихса и других» [с. 280]. В чем выразилось «давление» Дитерихса на «быстрый отъезд» Головина из Омска, мы не знаем. Но Колчак, доверявший Головину и ждавший его приезда, не противодействовал его отъезду. Очевидно, омская «обстановка» измучила Верховного правителя достаточно, — принося себя фатально в «жертву», он не мог требовать жертвенности от других>96.
Возможно, что Дитерихс, как все другие, был «никудышным стратегом» и что только вовремя прибывший Головин несколько исправил план готовившихся операций на линии реки Тобола. Во всяком случае, первый этап операции, пока силы были равны>97, проходил неудачно для Советской армии: после сентябрьских боев она принуждена была отступить>98. Настроение в Омске подняла шумиха из-за поголовной мобилизации сибирских казаков, которая, по расчету Иванова-Ринова, должна была дать 18 тыс. Этот казачий корпус должен был совершить рейд на Курган в тыл наступавшей Красной армии. Собрал Иванов-Ринов только 7 1/2 тыс., но тем не менее начал свой обход Красной армии крупным успехом. «Сейчас Иванов-Ринов, — записывает Будберг, человек очень непосредственный, несмотря на свой критицизм, — становится близок к исторической славе... Омск ликует. Мне совестно за свой пессимизм» (11 сентября). В итоге «ударный кулак» все же не удался — конный корпус в тыл противника проникнуть не смог. Пополненная новыми резервами Красная армия перешла в наступление и переправилась через Тобол. Колчаковские войска спешно отошли за реку Ишим. По мнению Какурина, «конец тобольской операции знаменовал собою конец организованного сопротивления противника. Его войска потеряли уже всякую боеспособность, и в дальнейшем армиям Восточного фронта предстояло преодолевать не сопротивление противника, а пространство» [II, с. 357].
Как пессимизм Будберга, так и советский оптимизм Какурина требуют поправок. Еще раз обратим внимание на запись Пепеляева: ...«Дитерихс сказал мне, что Туркестанская армия большевиков готова нам сдаться, идут переговоры... на нашем фронте устойчиво» (12 октября).
Записка Сукина отмечает, что Дитерихс начал наступление с верой, что большевиков удастся не только сломить, но и обратить в полное бегство.
Момент был, конечно, критический. Будберг чрезвычайно негодует на Дитерихса, когда тот на вопрос 11 августа, что он будет делать в случае неудачного наступления, ответил: «Разобьемся на партизанские отряды и, как в 1918 г., начнем снова». «Это же полный абсурд, — комментирует автор дневника, — ибо трудно представить себе обстановку более отличную от 1918 г., чем настоящая; тогда мы боролись с разрозненными толпами местной красноармейщины, а сейчас против нас регулярная армия, руководимая военными спецами из нашего же брата; тогда население было за нас, а теперь против нас; все это делает партизанскую войну для нас почти невозможной» [XV, с. 265]. Неоспоримо прав в этом отношении Будберг. Попытка поднять запоздалую волну добровольчества могла быть только жестом отчаяния. Такие жесты редко достигают цели. Для подъема нужно настроение — его, конечно, в Омске уже не было. Кругом скорее была разлита желчная критика, которая могла выращивать только чувство апатии и пессимизма. Пытался обратиться еще раз к сибирякам Потанин, призывая всех граждан «к оружию», так как враг у ворот Сибири. Старик предлагал себя в «заложники», ибо возраст лишал его возможности биться в рядах защитников родины. Обращение его было напечатано в «Правительственном Вестнике» 24 августа [№218]. Дитерихс склонен был придать войне религиозный характер — это соответствовало его специфически православному складу мыслей