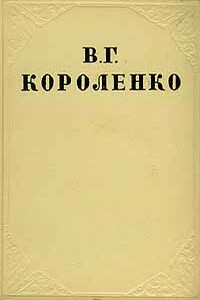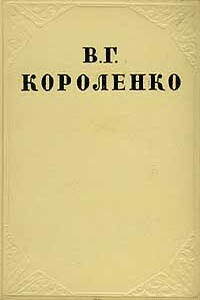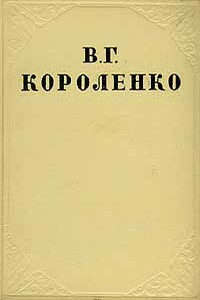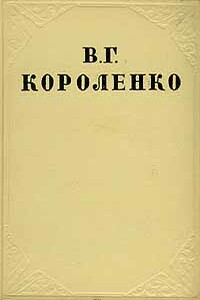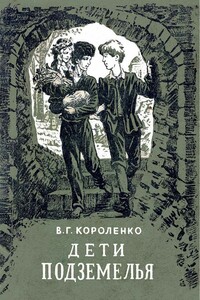Что же это? — спросит читатель: — очевидно, сатира на всех этих сверх-человеков и их новые психологии любви? В том-то и дело, что не сатира и не объективное изображение, а что-то вроде апологии. Господин Пшибышевский относится к своим кривляющимся героям совершенно так, как относились в 40-х годах авторы плохих повестей к разочарованным «демонам» из гусар, побеждавшим уездных простушек. Правильное отношение к этим полупьяным и безвольным сверх-человекам — здоровый смех, водевиль, веселая комедия или полупрезрительная жалость. Но автор берет тон чисто трагический, с громом, молнией, «безднами пола»… Под конец романа являются еще неизвестно зачем анархисты, террористы, заговорщики, происходят сцены самоубийств, и все вместе сливается в головокружительный кавардак, в котором теряются последние крупицы здравого человеческого чувства и смысла…
В общем вся эта книга поистине не книга, а жест, только, если можно так выразиться, «жест лицом», в просторечии называемый гримасой. Гримасничают герои, гримасничает автор, гримасничает переводчик, для «оригинальности языка» переполнивший перевод невероятными германизмами и полонизмами, гримасничают издатели, снабдившие книгу «обложкой работы Н. Феофилактова»… И все-таки часть публики ищет еще чего-то в этом старом хламе, выдающем себя за новое искусство, и слушая психологические откровения вроде: «он сидит над собою и чем-то вроде сверх-мозга констатирует, что в его обыкновенном мозгу что-то (!) происходит» (229), — восклицает вместе с бедной, сбитой с толку Марит: «Эрик, ты дивный, великий человек».
Для литературы это, конечно, ничто: прошелестит и исчезнет; но все же это не лишено некоторого интереса, как иллюстрация эпидемического извращения литературных вкусов, которое временами охватывает некоторые части мятущегося «культурного» общества.
1904
Том первый. Спб. 1904
Нет сомнения, что автор этой книги — человек с литературным дарованием. Но что такое, собственно, литературное дарование? Это есть способность легко и свободно придавать литературную форму своим мыслям, чувствам и настроениям, независимо еще от их содержания. Случается очень часто, что люди с глубоким содержанием наделены этой способностью лишь в слабой степени, и тогда они мучительно ищут своей формы. И бывает наоборот; нередко собственно литературные способности даны судьбой людям с очень незначительным содержанием. Тогда форма ищет для себя содержания, по большей части, разумеется, чужого.
Господин Буренин чрезвычайно легко «владеет пером». Ему одинаково свободно даются и стихи, и проза, и в своих фельетонах, доставивших ему своеобразную известность, он мешает и то, и другое. Но если бы кто-нибудь задался целью отыскать в этой огромной (количественно) работе какую-нибудь руководящую нить, попытался бы определить, — за что собственно г. Буренин воюет в литературе в течение трех десятков лет, — то такой изыскатель оказался бы в чрезвычайном затруднении. В конце концов пришлось бы признать, что г. Бурении ратует всегда за… г. Буренина и самое большее еще — за газету, в которой работает г. Буренин и которая сама стоит лишь за себя, ставя паруса по воле господствующих ветров… В молодости г. Буренин исполнял свою задачу довольно весело, иной раз не без остроумия пересмеивая своих противников и отыскивая смешные стороны в самых разнообразных направлениях, тем легче, что все они были ему одинаково чужды. С течением времени он перешел к сплошным ругательствам, выделявшимся уже не остроумием, а беззастенчивой грубостью. На расстоянии целых фельетонов он заменял прежний веселый шарж простым кривлянием, коверкая от чьего-нибудь имени русский язык и заставляя злополучных наборщиков набирать «шкажал» вместо «сказал», или «прифшкакивать» вместо «привскакивать». Повидимому, есть еще немало людей, которым это кажется забавным и остроумным. Несомненно, однако, что с литературной точки зрения это была элементарнейшая пошлость, совершенно недостойная уважающей себя печати… Вообще, если бы понадобилось охарактеризовать выдающуюся черту литературной деятельности г. Буренина, то пришлось бы сказать кратко: г. Буренин всю свою жизнь ругался. В молодости ругался порой не без остроумия, в старости — с какой-то угрюмою злобой, порой переходящей в неистовство…