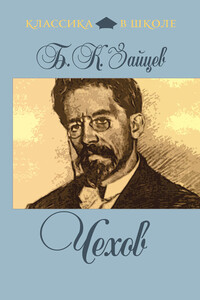Зайцев – москвич и не раз подчеркивал свою духовную связь с Москвой, свою сыновнюю ей преданность. В предисловии к книге, так и озаглавленной: «Москва», он говорит, что если бы она, эта книга, «дала Москву почувствовать (а может быть, и полюбить), то и хорошо, цель достигнута».
Между тем внутренний его облик не совсем сходится с тем, что привыкли мы считать, чуть ли не с грибоедово-пушкинских времен, московским стилем, московским жизненным укладом и складом. В этом смысле Шмелев типичнее, характернее его, и знаменитые строки:
Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось! –
строки эти, ко всему, что написано Шмелевым, гораздо естественнее отнести. Шмелев гуще, плотнее, тяжелее, «почвеннее», его патриотизм традиционнее и элементарнее, весь он гораздо ближе к таким выражениям, как «первопрестольная», «златоглавая», «белокаменная»… Вспомним карту России: Москва сидит спокойно в центре, распространяя спокойствие и вокруг, внушая мысль, что именно она все держит и, пока держит, все будет стоять на своих местах, – не то что Петербург, тревожный и рискованный даже географически. В Зайцеве мало этих московских черт. Съездил он однажды на о. Валаам и, кажется, почувствовал себя там больше дома, чем где бы то ни было: сосны, прохлада, зори, тишина – чего и желать другого? Или Италия, страна ленивая и блаженная, вечно обаятельная для всех северян; Италия, как неизгладимое воспоминание, почти всегда присутствует в зайцевских писаниях, и от Арбата или каких-нибудь Крутицких ворот не так у него далеко до тосканских равнин. «Пятиглавые московские соборы с их итальянскою и русскою красой…» – сказано в стихотворении Осипа Мандельштама. В каждой зайцевской фразе есть отблеск этой двоящейся «красы».
Однако если уж вспоминать стихи, то следует вспомнить и Блока:
Славой золотеет заревою
Монастырский крест издалека
Не свернуть ли к вечному покою?
Да и что за жизнь без клобука!
«Да и что за жизнь без клобука!» Ни в одной книге Зайцева нет намека на стремление к иночеству, и было бы досужим домыслом приписывать ему, как человеку, не как писателю, такие чувства или намерения. Но тот «вздох», который в его книгах слышится, блоковскому восклицанию не совсем чужд – вероятно потому, что Зайцев, как никто другой в нашей новейшей литературе, чувствителен к эстетической стороне монастырей, монашества, отшельничества. Ничуть не собираясь «бежать из мира», можно ведь признать, что есть у такого бегства своеобразная, неотразимая эстетическая прельстительность… Люди спорят о религиозной или моральной ценности монастырского уединения (кажется, Белинский охарактеризовал его как «чудовищный эгоизм» – с обычной своей нетерпимостью, мешавшей ему понять многое из того, что по природным своим данным он понять и должен был бы, и мог бы). Споры и разногласия неизбежны, пока умы и души не удалось еще никаким цензорам и опекунам наполнить одним содержанием. Бесспорно, однако, то, что, как поэзия, как поэтический стиль, как поэтический порыв, – это одно из чистейших созданий человеческого духа, в частности духа русского, и стоило, например, Нестерову, с его не Бог весть какими богатыми художественными средствами, на эту сокровищницу набрести, притом в чуждые ей времена, как в ответ возникло волнение глубокое и подлинное. Стоило ему изобразить лес, келью, подвижника и спящего у его ног медведя, как на полотно лег отблеск многовекового вдохновения.
Зайцев не случайно написал «Валаам», и написал не так, как мог бы написать записки о какой-либо другой своей поездке. Он сделал то же, что Нестеров, только, пожалуй, искуснее и вкрадчивее. К благолепию иночества, к древнему, незыблемому складу его он подошел как будто с некоторой иронической небрежностью, с напускной рассеянностью, но, кажется, лишь затем, чтобы не отпугнуть читателя, чтобы прикинуться своим, мол, братом-интеллигентом, горожанином, скептиком. Войдя в доверие, «установив контакт», Зайцев развертывает свою панораму и знает, что не поддаться ее очарованию трудно.
Есть две линии, две тенденции в восприятии монашества, православия и даже всего христианства; в нашей литературе они, отражены особенно отчетливо в спорах о том, какой из двух представленных в «Братьях Карамазовых» образов глубже и правдивее – благостный, всепрощающий, всепонимающий Зосима или суровый, полуюродивый Ферапонт. Константин Леонтьев, один из тех русских писателей, которые к эстетической стороне православия, к «поэзии» его, были наиболее чувствительны, страстно отстаивал правоту Ферапонта, отвергая, высмеивая, ненавидя – как он умел ненавидеть – «розовое» христианство зосимовского типа. Леонтьев даже как художник искал черных оттенков с примесью красного цвета – цвета огня и крови. Зайцев, разумеется, весь на стороне Зосимы, и как на подбор ему на Валааме и монахи встречались все такие: кроткие, тихие, примирившиеся, ничуть не «воинствующие». Если вовлечься в спор, хотелось бы сказать, что в целом зайцевская концепция чище леонтьевской, пусть и уступая ей в оригинальности и силе. Достоевский-то во всяком случае был за Зосимой, а не за Ферапонтом, и надо иметь такую фантастически-сложную, истерзанную психику, как у Леонтьева, чтобы искать света в проклятьях и анафемах вместо любви. Зайцев не боится показаться пресным. Но зато и не рискует оказаться тем духовным жонглером, которого никакой ум, никакая даровитость не спасет в конце концов от бесплодья. Его путь скромнее и вернее.