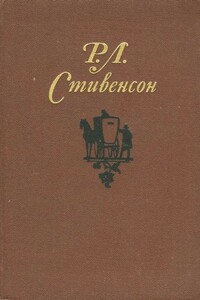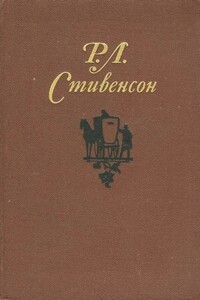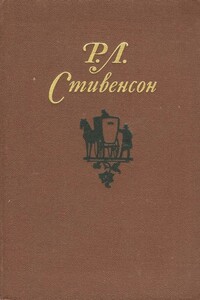Джентльмен поднял голову, и оказалось, что лицо у него под стать его широкой спине.
— Понимаете, сэр, стою и диву даюсь, до чего же я глуп: хожу мимо всю свою жизнь, каждую неделю — разумеется, в хорошую погоду — и ни разу не приметил этого камня! — И толстяк легонько постучал по камню крепкой дубовой тростью.
Я взглянул. Камень был вставлен в стену меж другими как-то боком, и на нем ясно виднелись следы геральдических знаков. И меня вдруг осенило: джентльмен этот с виду в точности таков, каким Флора описала мне мистера Робби, если же он притом еще и знаток фамильных гербов, то, несомненно, это Робби и есть. А ведь что может быть удачнее, нежели случайное знакомство с человеком, которого я непременно должен разыскать на другой же день, чтобы поведать ему о гуртовщиках, и которому мне во что бы то ни стало надобно прийтись по душе!
Я тоже склонился над камнем.
— Шеврон на трех рыбах? — сказал я задумчиво. — Похоже на герб Дугласов, не правда ли?
— Вот именно, сэр, вы совершенно правы. Как две капли воды похоже на герб Дугласов; впрочем, тут все так сбито и обломано, да и краски так выцвели, что я не решился бы это утверждать. Но позвольте мне высказать свое удивление, сэр: ныне, когда культура день ото дня падает все ниже, редко встретишь подобную осведомленность!
— Видите ли, образованием своим я обязан наставнику моей юности, — отвечал я, — то был пожилой джентльмен, друг нашей семьи и, можно сказать, мой опекун, но с той поры я многое позабыл. Ради бога, не подумайте, сэр, что я стремлюсь показаться знатоком, я всего лишь невежественный любитель.
— Что ж, скромность украшает и знатоков, — любезно возразил мой новый знакомец.
Коротко говоря, дальше мы двинулись вдвоем и, весьма дружески беседуя, прошли остаток проселочной дороги, предместья нового города и вступили на его улицы, безлюдные, тихие, точно вымершие. Лавки были закрыты, ни извозчиков, ни экипажей, одни кошки опрометью носились по залитой солнцем старой мостовой; наши голоса и шаги гулко отдавались от стен молчаливых домов. Вот оно, престранное завершение бурной деятельности, в которой Эдинбург пребывал всю неделю и которая неуклонно нарастала день ото дня, подобно морскому приливу; то был апофеоз воскресенья, и, признаюсь, картина была величественная, хоть и на редкость унылая. Не всякий религиозный обряд производит столь глубокое впечатление. Итак, мы шли и разговаривали в совершенном одиночестве, как вдруг во всем городе зазвонили колокола и улицы мгновенно заполнились благочестивыми прихожанами, спешащими в церковь.
— Вот и колокола, — сказал мой спутник. — Вы человек приезжий, сэр, а посему позвольте предложить вам мою скамью в церкви. Быть может, вы не знакомы с нашими шотландскими богослужениями; тогда я покажу вам в молитвеннике, какие нынче будут псалмы. Я прихожанин храма Святой Девы, а наш пастырь, доктор богословия, преподобный Генри Грей, — один из лучших проповедников в городе.
Это предложение повергло меня в ужас. Я вовсе не собирался идти на такой риск. На улице мимо нас пройдут десятки людей, кое-кто, возможно, разок на меня оглянется, но и только; если же я просижу на церковной скамье долгую службу, на меня посмотрят и в третий и в четвертый раз и в конце концов признают. Довольно случайного поворота головы, чтобы привлечь внимание людей. «Кто бы это мог быть? — спросят они себя. — До чего знакомое лицо». И так как в церкви думать решительно не о чем, меня станут разглядывать и еще до конца богослужения припомнят, кто я такой. Но будь что будет! Я поблагодарил моего нового друга за любезность и покорно пошел за ним.
Мы направились в северо-восточную часть города, где в живописном новом предместье стояла недавно построенная просторная и красивая церковь. И вскоре я уже восседал на скамье рядом с моим добрым самаритянином, и на меня глядели словно бы с угрозой все многочисленные прихожане храма. Сперва я непрестанно думал об опасности и сидел как на иголках, но понемногу уверился, что страшиться нечего, ибо, видно, служба так и не оживится арестом французского шпиона, и принялся усердно слушать проповедь преподобного Генри Грея.