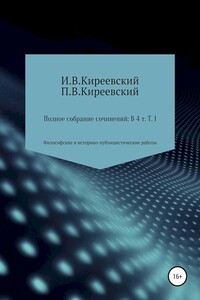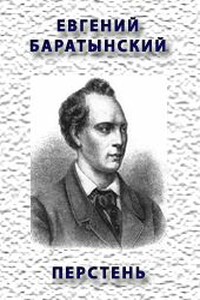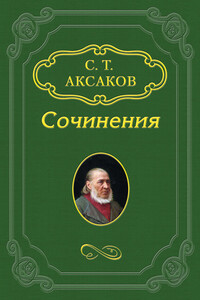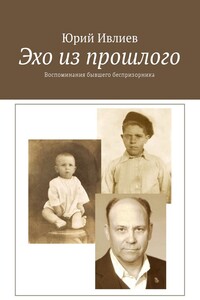Здравствуй, мой любезнейший Иван Киреевский! Паки и паки вопрошаю тебя, что же ты делаешь — почему же ты ничего не делаешь? Вот уже две книжки «Московского наблюдателя»[346] вышли без твоего пособия; я ждал, ждал, ждал, наконец вышел из терпения и решился спросить тебя: что же ты — подобно мне? Но я, брат, имею отговорку: я был болен долго, долго — года с два — и только теперь начал лечиться. На днях приезжал ко мне из Пензы в здешних краях знаменитый и даже за морем известный гомеопат Петерсон — и пользует меня. Я жду от него спасения и полного выздоровления. А потом уже…
Видно, у вас в Москве сильно восхищаются драмами Кукольника: это нехорошо, это бестолково. Я следовал за развитием Кукольника, шаг за шаг, читал все, что он писал — и теперь собираю все его сочинения
Все зажгу
И в это пламя брошу Роксолану!
[347]В его «Ляпунове» мне не нравятся даже те места, которые хвалит сам Шевырев, находя в них что-то шиллеровское! Что же делает Хомяков? У меня к тебе есть просьба: нельзя ли тебе достать от Баратынского стихи его, пропущенные в новом издании, — и мне переслать их, для полного удовольствия? Где твой Петр Васильевич[348]? Об его отъезде за границу в газетах объявлено, кажется, недавно. Здесь все читают жадно повесть Павлова[349] во 2-м номере «Московского наблюдателя». Письмо А. И. Тургенева[350] могло бы быть, т. е. должно бы было быть, гораздо занимательнее, и важнее, и литературнее, — и пр. В «Московском наблюдателе» всего лучше критика Шевырева.
Всему вашему семейству мои почтения.
Весь твой Н. Языков.
Правда ли, что в пансионе Павлова[351] прибавлена плата за воспитанников? Потрудись спросить, буде можешь, и уведомь меня когда-нибудь.
Дмитрию Николаевичу и Екатерине Александровне[352] поклонись от меня. Где они?
Достойно и праведно благодарю Вас за письмо Ваше и паче за Ваше воспоминание обо мне: оно освежает, услаждает и утешает вялую, горькую и горемычную жизнь мою под веселым небом юга, в стороне лимонов, олив и лавров и в виду средиземных вод, которые мне уже давно наскучили, как лекарственные. Нетерпеливо жду письма от Петра Васильевича вместе с известием о начале печатания песен: боюсь, чтоб он вовсе их не бросил, углубившись еще и в мир византийский. Как жаль мне, что я теперь не в Москве, что не слышу этих жарких и коренных споров о предметах важных! Воображаю А. И. Тургенева защищающимся от наших подвижников! На Петра Васильевича надеюсь, что он препобеждает своих противников: я видел меч его, я уверен, что он уже достал себе и щит веры, и камень веры, и пращицу духовную, да отражает и поражает ими латинство и лютерство!
Кстати, получили ли Вы посылку из Ганау? Ее обещал отправить к Вам Коп; это было еще в июле прошлого года, Коп надеялся отдать ее кому-нибудь из русских, его посещающих на возвратном пути восвояси. Жаль, ежели он не нашел верной оказии: эта посылка Вас бы порадовала! Впрочем, она-таки не пропадет: я буду в Ганау в июле, отсюда, накупавшись в волнах морских, отправлюсь опять в Гаштейн, а оттуда опять к Дицу[353]. Мельгунов съездит со мною в Гаштейн: это меня утешает, а там, в Ганау, я как дома, — почти… В Италии мне скучнее, нежели в неметчине, и я то и дело раскаиваюсь, что забрался в эту даль: лекаря здесь дрянные, народ подлый, мерзкий и нищий, скука да и только! Стихи на ум нейдут, когда и соберусь писать — все это не так, как бы на Руси! Жду не дождусь, когда в обратный путь: здоровья, видно, мне уже и во сне не видать, хоть бы домой…
Радуюсь, что Баратынский и Хомяков не оставляют лир своих: не то бы наш Парнас двинулся, как обоз, в котором тысячи немощных калек. Где теперь Баратынский? Если в Москве, то кланяйтесь ему от меня: ведь он, кажется, ездил в Крым!
Прощайте. Будьте здоровы, не ездите на пугливых и бурных лошадях и не встречайтесь с писательницами .
Ваш Н. Языков.
Алексею Андреевичу