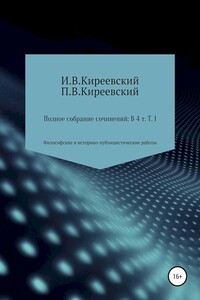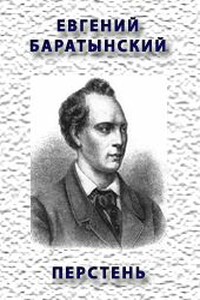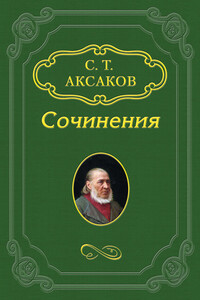Между тем Петр Васильевич спокойно жил и учился в Мюнхене. Узнав из письма брата (к сожалению, несохранившегося) о постигшей его сердечной неудаче, он пишет ему в ноябре 1829 года длинное, задушевное письмо. В этой братской исповеди мы впервые встречаемся с Петром Киреевским, так сказать, лицом к лицу: до сих пор мы лишь вскользь упоминали о нем, следя за умственным ростом старшего брата. Выписываем из письма Петра Васильевича все наиболее рисующее его самого и его отношение к брату.
«Я получил твое письмо! Какое горькое чувство оно дало мне! И вместе какое высокое, утешительное! На твою искреннюю, горячую дружбу — не слова должны быть ответом. Глубокие, неизгладимые черты, которые твое письмо оставило в моем сердце, будут для меня вечным талисманом, укрепляющим и возвышающим душу, и пусть его действие будет тебе моей благодарностью. Мне тяжело было чувствовать, как мало я оправдываю то высокое понятие, которое ты имеешь обо мне, но твоя вера в меня дает мне новые силы: она имеет силу творческую.
С какой гордостью я тебя узнал в той высокой твердости, с которой ты принял этот первый тяжелый удар судьбы! Так! Мы родились не в Германии, у нас есть отечество. И, может быть, отдаление от всего родного особенно развило во мне глубокое религиозное чувство, может быть, даже и этот жестокий удар был даром неба. Оно мне дало тяжелое, мучительное чувство, но вместе чувство глубокое, живое, оно тебя вынесло из вялого круга вседневных впечатлений обыкновенной жизни, которая, может быть, еще мучительнее. Оно вложило в твою грудь пылающий уголь, и тот внутренний голос, который в минуту решительную дал тебе силы, сохранил тебя от отчаяния, был голос Бога:
Восстань, пророк! и виждь и внемли:
Исполнись волей моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!
[445]Ты хорошо знаешь все нравственные силы России: уже давно она жаждет живительного слова, и среди всеобщего мертвого молчания какие имена оскверняют нашу литературу!
Тебе суждено горячим, энергическим словом оживить умы русские, свежие, полные сил, но зачерствелые в тесноте нравственной жизни. Только побывавши в Германии, вполне понимаешь великое значение русского народа, свежесть и гибкость его способностей, его одушевленность. Стоит поговорить с любым немецким простолюдином, стоит сходить раза четыре на лекции Мюнхенского университета, чтобы сказать, что недалеко то время, когда мы их опередим и в образовании. Здесь много великих ученых, но все они собраны из разных государств Германии одним человеком — королем, который делает все, что может; это еще не университет: что могут они сделать, когда их слова разносятся по ветру? Надежды, которые университет подавать может, должны мериться и образовательностью слушателей. А знаешь ли, что в Московском университете едва ли найдешь десяток таких плоских и бездушных физиономий, из каких составлен весь Мюнхенский? Знаешь ли, что во всем университете едва ли найдешь между студентами человек пять, с которыми бы не стыдно было познакомиться? Что большая часть спит на лекциях Окена и читает романы на лекциях Гёрреса? Что дня три тому назад Тирш, один из первых ученых Германии, должен был им проповедовать на лекции, что для того, чтобы сделать успехи в филологических науках, не должно скупиться и запастись по крайней мере латинской грамматикой! Потому что многие из них приходят к нему, прося позволения просмотреть грамматику Цумита, которая стоит 1 талер! И это тот университет, где читают Шеллинги, Окены, Герресы, Тирши. Что если бы один из них был в Москве? Какая жизнь закипела бы в университете! Когда и тяжелый педантичный Давыдов мог возбудить энтузиазм! Но это ты все увидишь, если и не решишься ехать в Мюнхен, то увидишь и в других государствах Германии.
Что тебе сказать о том, что я делаю в Мюнхене? Я хотя и занимаюсь довольно деятельно, но сделал очень немного; главные мои занятия: философия, латинский язык и отчасти история, но медленность моего чтения не переменилось, и я прочел очень немного, больше пользы получил от виденного и слышанного и вообще от испытанного.